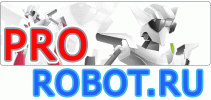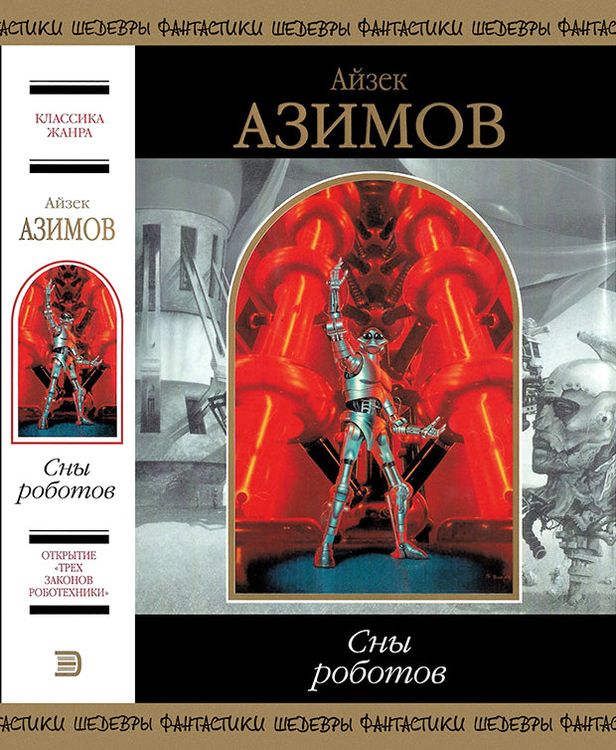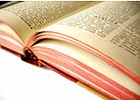Опубликовано: 30.07.2012, 17:00
Автор: Айзек Азимов
Оригинальное название: Robot Dreams, 1986;
Другие названия: Робот, который видел сны; Робот видит сны
Рассказ, 1986 год; цикл «Галактическая история»
Перевод И. Шефановской
36 Страниц, 10-11 Часов на чтение, 149 тыс. слов
Сны роботов (Предисловие к сборнику рассказов)
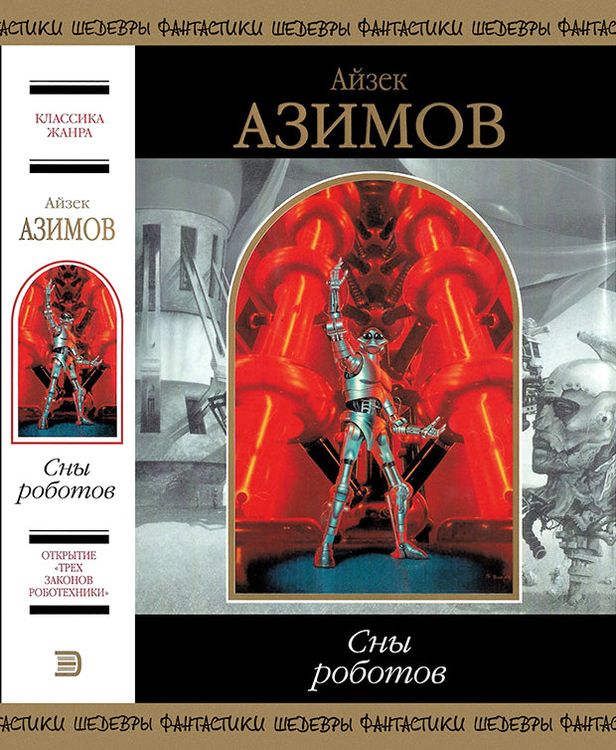
Стр. 1 : Стр. 2 : Стр. 3 : Стр. 4 : Стр. 5 : Страница 6 : Стр. 7 : Стр. 8 : Стр. 9 : Стр. 10 : Стр. 11 : Стр. 12 : Стр. 13 : Стр. 14 : Стр. 15 : Стр. 16 : Стр. 17 : Стр. 18 : Стр. 19 : Стр. 20 : Стр. 21 :
р как человеческое тело утратило способность к неограниченному росту, прошло слишком много миллионов лет. Сможет ли оно вернуться в прежний режим? Готово ли оно к этому химически? Достаточно ли у него... ну, как вы их называете...
– Ферментов, – прошептала Роуз.
– Да, ферментов. Так вот, для нас это стало невозможным. Если в силу каких либо причин паразитический разум, как называет его Харг Толан, действительно покинет тело человека или окажутся нарушены его взаимоотношения с человеческим сознанием, рост, конечно, начнется, только не тот, который нам нужен. У нас такой рост называется раком. Вот и все. Мы не можем избавиться от паразита. Мы с ним повязаны навечно. Чтобы покончить с Ингибиционной Смертью, жителям других миров придется стереть с лица Земли всех позвоночных. У них нет другого выхода, и мы не должны допустить, чтобы они это поняли. Теперь тебе ясно?
Пересохшими губами Роуз с трудом произнесла:
– Я поняла, Дрейк. – Она заметила, что лоб его был мокрым и на щеках остался след от ручейков пота. – Теперь тебе придется вытащить труп из дома.
– Время позднее, проблем с этим не будет. Начиная с этой минуты, – муж пристально посмотрел ей в глаза, – я не знаю, когда я вернусь.
– Я поняла, Дрейк, – повторила Роуз.
Харг Толан оказался тяжелым. Дрейку пришлось волочить его через всю квартиру. Роуз с содроганием отвернулась. Она не открывала глаз, пока не услышала, как закрылась входная дверь. Затем она еще раз прошептала:
– Я поняла, Дрейк.
Было три часа утра. Прошел почти час с тех пор, как за Дрейком и его ношей мягко защелкнулся замок. Она не знала, куда он пошел, и что собирался делать...
Роуз тупо смотрела в одну точку. Ни спать, ни вообще шевелиться не хотелось. Она гоняла мысли по тесному кругу, стараясь не думать о том, что узнала и что хотела узнать.
Сознание паразит! Случайность или причудливая расовая память, тонкий, стойкий аромат традиций и озарений, уходящих в глубины неправдоподобных тысячелетий, поддерживали странный миф о происхождении человека? Прежде всего, на Земле было две мыслящих расы: люди в садах Эдема – и змей "хитрее любого зверя в полях". Змей заразил человека и потерял из за этого свои конечности. Его физические атрибуты оказались лишними. А человек вследствие заражения потерял райский сад и вечную жизнь. В мир пришла смерть.
Несмотря на все усилия Роуз, круг ее мыслей расширялся и тяготел к Дрейку. Она прогоняла эти мысли, но они возвращались. Она начинала считать про себя и перечислять названия предметов, находящихся в поле зрения. Под конец она стала выкрикивать "Нет, нет, нет", но мысли возвращались, и спасения от них не было.
Дрейк ее обманул. Его версия выглядела вполне правдоподобно и вполне сошла бы за правду при других обстоятельствах, но Дрейк не был биологом. Рак не может быть болезнью, обусловленной утраченной способностью к нормальному росту. Раком заболевают еще растущие дети, он способен поразить даже эмбриональную ткань. Он встречается у рыб, которые, как мыслящие существа с других планет, растут всю жизнь и умирают только из за болезни или несчастного случая. Рак поражает не обладающие сознанием растения, на которых нельзя паразитировать. Рак не зависит от роста или его отсутствия, это универсальная болезнь всего живого. Ни одна ткань и ни один многоклеточный организм не обладают против него полным иммунитетом.
Не стоило Дрейку утруждать себя враньем. Он не имел права на сентиментальную слабость. Он должен был убить ее. Она расскажет обо всем в институте. Паразит может быть побежден. Его отсутствие не вызовет заболевания раком. Но кто ей поверит?
Роуз прикрыла глаза руками. Пропавшие без вести молодые мужчины находились, как правило, на первом году семейной жизни. Каким бы ни был процесс размножения сознания паразита, он должен включать в себя близкий контакт с другим паразитом – другими словами, между их хозяевами должно существовать близкое и продолжительное общение. Такое обычно бывает на первом году совместной жизни.
Роуз чувствовала, как ее мысли медленно отключаются.
К ней придут. Ее спросят: "Где Харг Толан?" А она ответит: "С моим мужем". Только они все равно спросят: "А где ваш муж?" – потому что его тоже не будет. Она ему больше не нужна. Он никогда не вернется. И они никогда его не найдут, потому что он улетит в космос. А она заявит в Бюро пропавших без вести сразу о двоих: Дрейке Смоллете и Харге Толане.
И тогда она начала смеяться. Роуз хотела остановиться, но ничего не получалось, уж очень все вышло смешно. Она искала ответы на множество вопросов и нашла их все. Она даже нашла ответ на вопрос, который считала не относящимся к делу.
Она наконец поняла, зачем Дрейк на ней женился.
Салли
Салли спускалась по дороге к озеру, и я помахал ей и окликнул по имени. Мне всегда было приятно видеть Салли. Остальные тоже мне, конечно, нравились, но Салли бесспорно была самой прелестной из всей компании. Когда я помахал ей, она стала двигаться быстрее. Ничего вульгарного в ее движениях не было. Этого за ней никогда не водилось. Она просто достаточно увеличила скорость, чтобы показать, что ей тоже приятно меня видеть. Я повернулся к человеку, стоявшему рядом со мной.
– Это Салли, – сказал я.
Он улыбнулся мне и кивнул. Привела его миссис Хестер.
– Джейк, это мистер Гелхорн, – сказала она. – Вы помните, он прислал вам письмо, прося о встрече?
На самом деле миссис Хестер прекрасно знала, что никакого письма я не читал. На ферме у меня миллион дел, и почта – одна из тех вещей, на которые я не могу тратить время. Вот почему я нанял миссис Хестер. Она живет поблизости и хорошо разделывается со всякими глупостями, приходящими по почте, а самое главное, ей нравится Салли и все остальные. Есть люди, которым они не нравятся.
– Рад встретиться с вами, мистер Гелхорн, – сказал я.
– Раймонд Дж. Гелхорн, – уточнил он и подал мне руку.
Он был крупным парнем, на полголовы выше меня, и шире в плечах, и, пожалуй, вдвое моложе – где то под тридцать. Волосы у него были черные, гладко причесанные, с пробором посередине, усы тонкие, аккуратно подстриженные, а челюсти такие выступающие, что казалось, будто у него легкая форма свинки. В кино он бы, конечно, играл злодея, из чего я заключил, что он славный человек. На кино всегда можно положиться, если знать, как к этому подойти.
– Меня зовут Джейкоб Фолкерс, – сказал я, – Что я могу для вас сделать?
Он ухмыльнулся. Это была широкая, белозубая улыбка.
– Не расскажете ли вы мне немного о вашей ферме, если можно.
Я услышал за спиной приближающуюся Салли и протянул руку. Салли прильнула к ней, и ощущение твердой, гладкой поверхности ее крыла согрело мне ладонь.
– Красивый автомобиль, – сказал Гелхорн.
Можно, конечно, назвать ее и так. Салли представляла собой модель 2045соткидным верхом, с позитронным мотором Хеннис Карлтона и шасси Армата, Она обладала самыми пропорциональными формами, какие я только видел. Пять лет – с тех пор, как она появилась на ферме, – она была моей любимицей, и я снабдил ее всеми усовершенствованиями, какие только мог придумать. За все эти годы никто никогда не сидел за ее рулем. Ни разу.
– Салли, – сказал я, нежно похлопывая ее, – познакомься с мистером Гелхорном.
Урчание мотора Салли сделалось на тон выше. Я всегда очень внимательно прислушиваюсь к работе двигателей моих подопечных. В последнее время в моторах почти всех автомобилей часто возникал стук, и замена масла нисколько не улучшала ситуацию. Однако сейчас звук двигателя Салли был таким же ровным, как и ее отполированная поверхность.
– Вы всем своим машинам даете имена? – спросил Гелхорн.
Его голос звучал насмешливо, а миссис Хестер не нравились люди, которые подсмеиваются над фермой. Она язвительно сказала:
– Конечно, ведь у машин есть свои индивидуальности, не так ли, Джейк? Все седаны – мальчики, а все машины с откидным верхом – девочки.
Гелхорн опять усмехнулся.
– И вы их держите в отдельных гаражах, мадам?
Миссис Хестер бросила на него испепеляющий взгляд.
Гелхорн сказал, обращаясь ко мне:
– Нельзя ли нам поговорить наедине, мистер Фолкерс?
– Смотря о чем, – ответил я. – Вы репортер?
– Нет, сэр. Я торговый агент. То, о чем я хочу поговорить, не для печати, Уверяю вас, я заинтересован в строгой секретности.
– Давайте пройдемся немного вдоль дороги. Там есть скамейка, на которой мы могли бы посидеть.
Мы направились к скамейке, миссис Хестер ушла, а Салли двинулась за нами. Я спросил:
– Вы не против, если Салли составит нам компанию?
– Нет, конечно. Ведь она никому не расскажет о нашем разговоре, не так ли? – Он посмеялся своей шутке, протянул руку и погладил Салли по радиатору.
Салли резко увеличила обороты двигателя, и Гелхорн отдернул руку.
– Она не привыкла к незнакомым, – сказал я. Мы сели на скамейку под большим дубом, откуда открывался вид на пруд и нашу собственную скоростную дорогу за ним. День выдался теплый, и большинство машин вышло на прогулку, – на дороге их было не менее тридцати. Даже на таком расстоянии я видел, как Джереми проделывает свой обычный трюк, подкрадываясь и пристраиваясь позади какой нибудь степенной и старой модели, затем внезапно набирая скорость и обгоняя старушку, тормозя перед самым ее носом. Две недели назад он таким образом совсем оттеснил старого Ангуса с асфальта, и в наказание я выключил его мотор на два дня. Это, однако, не помогло, и, боюсь, тут уже ничего не поделаешь. Джереми – спортивный автомобиль, а машины этого типа очень возбудимы.
– Ну, мистер Гелхорн, – сказал я, – можете вы мне сказать, зачем вам нужна информация?
Вместо ответа он посмотрел по сторонам и сказал:
– У вас тут просто потрясающе, мистер Фолкерс.
– Зовите меня просто Джейк, как все.
– Хорошо, Джейк. Сколько у вас здесь машин?
– Пятьдесят одна. Каждый год у нас появляется одна или две новых. Был год, когда прибавилось целых пять. Мы еще ни одной не потеряли, и они все в рабочем состоянии, У нас даже есть модель Мат о Мот пятнадцатого года выпуска – это один из самых ранних автомобилей роботов, и он еще на ходу. С него и началась ферма.
Добрый старый Мэтью. Сейчас он большую часть дня стоит в гараже, но ведь он дедушка всех автомобилей с позитронным мотором. Когда они появились, владельцами машин роботов могли быть только слепые ветераны, больные параплегией и губернаторы штатов. Но мой босс – Сэмсон Хэрридж – был достаточно богат, чтобы обойти все запреты и купить такую машину. В те времена я служил у него шофером.
Вспоминая те дни, я чувствую себя старым. Я ведь еще помню время, когда на свете не было ни одного автомобиля даже с таким малюсеньким мозгом, который позволил бы ему найти дорогу домой. Я водил безжизненные глыбы машин, которые нуждались в человеческих руках, управляющих ими каждую минуту. Ежегодно такие машины убивали на дорогах десятки тысяч человек.
Автоматика исправила положение. Позитронный мозг, конечно, работает много быстрее человеческого и гораздо лучше управляет автомобилем. Ты садишься в машину, набираешь адрес и предоставляешь ей действовать но своему усмотрению.
Сейчас мы воспринимаем это как должное, а ведь какой крик поднялся, когда появились законы, запрещавшие ездить на старых автомобилях и предписывавшие использовать только машин роботов, Законодателей обзывали по всякому, от коммунистов до фашистов, но, благодаря новым правилам, на дорогах стало свободнее и безопаснее, поток смертей прекратился, а большинство населения получило возможность удобно и быстро путешествовать. Конечно, автомобиль робот стоит в десятки раз дороже, чем обыкновенный, и немногие могли его себе позволить. Тогда промышленность стала выпускать автоматобусы. Достаточно было позвонить в соответствующую фирму, и через несколько минут робот омнибус тормозил у ваших дверей. Конечно, вам приходилось ехать с попутчиками, но что в этом плохого?
Однако у Сэмсона Хэрриджа машина робот была в личном владении, и я не отходил от нее с первой же минуты, как ее доставили. Тогда этот автомобиль еще не был для меня Мэтью. Я и предположить не мог, что в один прекрасный день он окажется старейшиной на ферме среди десятков машин роботов, а я буду их смотрителем. Тогда я только знал, что он отнимает у меня работу, и ненавидел его. Я спросил хозяина:
– Вы больше не нуждаетесь во мне, мистер Хэрридж?
– Не беспокойся, Джейк. Уж не думаешь ли ты, что я доверю себя этой штуковине? Ты останешься за рулем.
– Но она же все делает сама, мистер Хэрридж. Она видит дорогу, реагирует на препятствия, людей и другие машины, запоминает путь.
– Так говорят. Так говорят. Все равно сиди за рулем, на всякий случай.
Забавно, как ненависть превращается в любовь. В скором времени я уже называл автомобиль робот Мэтью и проводил все свое время, полируя и ублажая его. Для того чтобы позитронный мозг был в наилучшей форме, нужно, чтобы он постоянно контролировал всю механическую часть, а это значит, что бензобак нужно держать полным и дать мотору возможность понемногу работать днем и ночью. Через некоторое время я мог уже по звуку мотора сказать, как Мэтью себя чувствует.
Хэрридж тоже по своему привязался к Мэтью. Ему просто больше некого было любить. Он развелся с тремя женами и пережил пятерых детей и троих внуков. Так что не удивительно, что он завещал все свое состояние на создание фермы для вышедших в отставку автомобилей со мной во главе и с Мэтью в качестве родоначальника благородного семейства.
Это стало моей жизнью. Я так и не женился. Нельзя как следует заботиться одновременно и о собственном семействе, и о десятках автомобилей роботов.
Все газеты подняли затею с фермой на смех, но через некоторое время перестали шутить. Есть вещи, над которыми смеяться нельзя. Может быть, вам не по карману машина робот, может быть, вы всю жизнь будете ездить только на автоматобусах, но поверьте мне, автомобили роботы нельзя не любить. Они трудолюбивы и привязчивы. Только бессердечный человек может дурно обращаться с машиной роботом или спокойно наблюдать, как это делают другие.
Так получилось, что, если у человека какое то время был автомобиль робот, он обязательно завещал его ферме – конечно, при условии, что у него не оказывалось наследника, который бы обеспечил машине хороший уход.
Я объяснил все это Гелхорну.
Он сказал:
– Пятьдесят одна машина! Это же куча денег!
– Первоначальный взнос при покупке – минимум пятьдесят тысяч за один автомобиль, – сказал я. – Сейчас они стоят гораздо больше. Я в них многое усовершенствовал.
– Должно быть, очень дорого содержать ферму?
– Еще бы. Ферма – благотворительное учреждение, и это несколько снижает налоги, и к тому же вновь поступающие автомобили обычно имеют собственные фонды. Но все равно я постоянно нуждаюсь в деньгах – ведь расходы все время растут. Нужно содержать ферму в порядке – асфальтировать новые дороги и ремонтировать старые; нужны бензин, машинное масло и техническое обслуживание. Все это довольно дорого стоит.
– И сколько же времени вы этому посвятили?
– Много, мистер Гелхорн, Тридцать три года.
– Ну, мне кажется, Джейк, что вы не так уж много получаете за свои труды.
– Не так уж много? Вы меня удивляете, мистер Гелхорн. У меня есть Салли и пятьдесят других. Вы только посмотрите на нее.
Я не мог удержаться от улыбки. Салли была такая чистая, что глазам становилось больно. Как раз в этот момент о ее ветровое стекло разбилась мошка, и Салли тут же принялась за дело. Она высунула инжектор и побрызгала на стекло тегросолом, а потом дворником согнала жидкость в специальную канавку, Ни капли не попало на сверкающий яблочно зеленый капот.
Гелхорн сказал:
– Я никогда не видел, чтобы какая нибудь машина это делала.
– Наверняка не видели, – ответил я. – Только мои машины снабжены такими приспособлениями. Автомобили очень заботятся о своей внешности. Они все время чистят свои стекла, Им нравится прихорашиваться. Я даже снабдил Салли трубочкой с воском. Она так себя полирует, что в нее можно смотреться, как в зеркало. Если бы я мог наскрести достаточно денег, я и остальных девочек оснастил бы так же. Машины с откидным верхом очень тщеславны.
– Я скажу вам, как наскрести денег, если вам действительно интересно.
– Конечно интересно. Так как же?
– Разве это не очевидно, Джейк? Вы же сами сказали, что любая машина робот стоит минимум пятьдесят тысяч. Бьюсь об заклад, большая их часть потянет на шестизначное число.
– Ну и что?
– А вы никогда не думали о том, чтобы продать несколько штучек?
– Вы неверно меня поняли, мистер Гелхорн. Я не могу продать ни одну из них. Они принадлежат ферме, а не мне.
– Но ведь деньги и пошли бы на нужды фермы.
– В уставе записано, что все машины, попавшие к нам, обслуживаются пожизненно и не могут быть проданы.
– А как тогда насчет моторов?
– Я вас не понимаю.
Гелхорн переменил позу, и голос его стал доверительным.
– Давайте, Джейк, я объясню ситуацию. Существует большой спрос на частные машины роботы при условии, что цена будет не очень высока. Правда?
– В этом нет никакого секрета.
– И девять десятых цены составляет стоимость мотора. Допустим, я знаю, где можно достать кузова. Я также знаю, где можно продать автомобили роботы по хорошей цене – двадцать тридцать тысяч за дешевые модели и пятьдесят шестьдесят за дорогие. Мне нужны лишь моторы. Вы поняли?
– Нет, мистер Гелхорн. – Мне все было ясно, но я хотел, чтобы он произнес это сам.
– Да ведь решение лежит на поверхности. Вы, Джейк, должно быть, хороший механик. Вы можете снять мотор и поставить его на другую машину так, что никто не заметит разницы.
– Это не очень этично.
– Вы же ничего плохого машинам не сделаете. Можно использовать старые машины – например, Мат о Мот.
– Постойте, мистер Гелхорн, У автомобилей с позитронным мозгом мотор и кузов – единое целое. Моторы привыкли к своему собственному телу. Они будут несчастны в другом кузове.
– Хорошо, тут вы правы. Вполне правы, Джейк. Это вроде того, как если бы взяли ваше сознание и переместили в другой череп. Не так ли? Думаете, вам это не понравится?
– Не понравится, нет.
– Но если бы я взял ваш мозг и поместил в тело молодого атлета? Как насчет этого, Джейк? Вы уже немолоды. Будь у вас такая возможность, неужели вы не захотели бы снова стать двадцатилетним? Вот что я хочу предложить вашим позитронным моторам. Они получат новые тела – последней конструкции.
Я засмеялся.
– Это не имеет смысла, мистер Гелхорн. Я не хотел бы оказаться в молодом теле, если бы весь остаток жизни должен был копать ямы и никогда не есть досыта… Что ты об этом думаешь, Салли?
Обе дверцы Салли открылись, а затем закрылись с мягким щелчком.
– Что это значит? – спросил Гелхорн.
– Так Салли смеется.
Гелхорн выдавил улыбку. Я понял, что он счел мои слова всего лишь плохой шуткой. Он сказал:
– Рассуждайте логично, Джейк. Машины созданы для того, чтобы на них ездили. Они, вероятно, несчастны без этого.
– На Салли никто не ездил уже пять лет. На мой взгляд, она выглядит достаточно счастливой.
– Не уверен.
Он встал и медленно подошел к Салли.
– Привет, Салли, ты не против, если мы с тобой покатаемся?
Мотор Салли набрал обороты. Она попятилась.
– Не принуждайте ее, мистер Гелхорн. Она немного пуглива.
Ярдах в ста от нас по дороге двигались два седана. Они остановились. Наверное, они наблюдали за нами. Меня это не волновало. Я не сводил глаз с Салли.
Гелхорн сказал:
– Спокойно, Салли, спокойно. – Он сделал внезапный выпад и ухватился за дверную ручку. Она, конечно, не поддалась.
Он сказал:
– Минуту назад она открывалась.
– Автоматический замок. У Салли обостренное чувство стыдливости.
Гелхорн отступил, а потом медленно и подчеркнуто произнес:
– Машина с чувством стыдливости не должна ездить с опущенным верхом. – Он сделал три четыре шага назад, а потом быстро, так быстро, что я не успел ничего предпринять, разбежался и прыгнул в машину. Он захватил Салли врасплох, выключив зажигание до того, как она успела осознать происшедшее.
В первый раз за пять лет двигатель Салли не работал.
Думаю, что я закричал, но было уже поздно. В машине имелось ручное управление, и Гелхорн воспользовался им. Он включил мотор. Салли опять ожила, но лишилась свободы действий.
Гелхорн поехал по дороге. Седаны все еще находились там. Они медленно тронулись с места. Думаю, все происходящее было для них загадкой. Одного из них звали Джузеппе, другого – Стивен. Они всегда гуляли вместе. Оба были новичками на ферме, но пробыли здесь уже достаточно долго, чтобы знать, что на наших машинах не ездят.
Гелхорн ехал прямо вперед, и когда до седанов наконец дошло, что Салли не остановится, было уже слишком поздно. Они бросились от нее в разные стороны, а Салли пронеслась между ними с быстротой молнии. Стивен пробил ограду вокруг пруда и покатился по траве и грязи, пока не остановился в каких нибудь шести дюймах от кромки воды. Джузеппе вылетел на обочину с другой стороны дороги и резко остановился.
Пока я вытаскивал Стива обратно на дорогу и занимался определением ущерба, которое ему могло причинить столкновение с оградой, вернулся Гелхорн.
Он открыл дверцу Салли и вышел; при этом он выключил зажигание Салли во второй раз.
– Вот, – сказал он, – думаю, это пойдет ей на пользу.
Я сдержал свой гнев.
– Чем вам помешали седаны?
– Я думал, что они отъедут.
– Они так и сделали. Один пробил ограду.
– Мне очень жаль, Джейк, – сказал он, – я думал, они будут двигаться быстрее. Вы понимаете, я ездил на разных автомобилях, но в частной машине Роботс мне удалось прокатиться всего два или три раза, а управлял ею я впервые. У меня дух захватило, хоть я и достаточно закален. Говорю вам, нам не придется снижать цену больше чем на двадцать процентов по сравнению с новыми машинами, желающих будет полно, а это означает очень хороший доход.
– Который мы поделим?
– Пятьдесят на пятьдесят, и весь риск я беру на себя.
– Хорошо. Я выслушал вас. Теперь вы меня послушайте. – Я повысил голос, так как был слишком рассержен, чтобы соблюдать приличия. – Когда вы выключили мотор Салли, вы причинили ей боль. Вам бы понравилось, если бы вас избили до потери сознания?
– Вы преувеличиваете, Джейк. Автоматобусы выключают каждую ночь.
– Вот именно. Поэтому я и не хочу, чтобы хоть один из наших мальчиков или одна из наших девочек оказались в ваших новых модных кузовах. Автоматобусам нужен большой ремонт позитронных цепей каждые два года. Старый Мэтью вот уже двадцать лет как не нуждается в ремонте. Что же можно ему предложить взамен?
– Вы сейчас раздражены, Джейк. Обдумайте мое предложение, когда успокоитесь, и мы встретимся еще раз.
– Я уже давно все решил. Если я вас здесь еще раз увижу, я вызову полицию.
Его рот стал жестоким и некрасивым, Он сказал:
– Сбавь обороты, старикан.
– Хватит. Здесь частное владение, и я приказываю вам убираться.
Он пожал плечами.
– Ну, тогда до свидания.
– Миссис Хестер проводит вас. И не «до свидания», а «прощайте».
Но избавиться от него так легко не удалось. Я увидел его снова двумя днями позже. Точнее, через два с половиной дня, так как первый раз я видел его около полудня, а вновь он появился после полуночи. Я сел в постели, подслеповато моргая, когда он включил свет, и не сразу понял, что происходит. Но как только я разглядел Гелхорна, ситуация стала мне ясна. В правой руке у него был нажимной пистолет, такой маленький, что дуло было еле заметно между большим и указательным пальцами, но от этого не менее смертоносный. Я знал, что стоит ему слегка сжать руку, и я буду разорван на части.
– Одевайся, Джейк, – сказал он. Я не пошевелился, наблюдая за ним. Он продолжал:
– Ну давай, Джейк. Я ведь знаю, что к чему. Помнишь, я был у тебя два дня назад? Здесь нет ни охраны, ни электрифицированной ограды, ни сигнализации, ничего.
– Мне они и не нужны. А вам, мистер Гелхорн, ничто не мешает уйти. На вашем месте я бы так и поступил. Здесь может оказаться очень опасно.
Он хихикнул.
– Так и есть – для того, кто окажется под дулом пистолета.
– Я его вижу и знаю, что вы вооружены.
– Тогда пошевеливайся. Мои ребята ждут.
– Нет, мистер Гелхорн. Сначала я должен знать, чего вы хотите, но и тогда я, возможно, предпочту не двигаться с места.
– Я сделал тебе позавчера деловое предложение.
– Ответ по прежнему отрицательный.
– Теперь к этому предложению добавляется кое что еще. Сегодня со мной несколько человек и автоматобус, Ты пойдешь со мной и снимешь моторы с двадцати пяти машин. Мне безразлично, какие машины ты выберешь. Мы погрузим моторы на автоматобус и увезем их. После продажи я позабочусь о том, чтобы ты получил свою долю.
– Вы, я полагаю, можете поручиться в том, что дележ будет честным?
Он не обратил внимания на мой сарказм.
– Конечно.
– Нет.
– Если ты будешь упираться, мы обойдемся без тебя. Я сниму моторы сам, но сниму все пятьдесят один. Все до единого.
– Отсоединить позитронный мотор не так уж просто, мистер Гелхорн. Вы разве разбираетесь в Роботехнике? Да и в этом случае учтите, что моторы своих автомобилей я усовершенствовал.
– Я знаю, Джейк. Сказать по правде, я не эксперт. Я могу запороть некоторые из них. Именно поэтому мне и придется забрать все пятьдесят один, если ты откажешься мне помочь. После того, как я с ними поработаю, может и не набраться двадцати пяти исправных. Тем, с которых я начну, придется хуже всего, пока я не набью руку. И уж если мне все придется делать самому, я начну с Салли.
– Не могу поверить, что вы это серьезно.
– Вполне серьезно, Джейк. – Он сделал паузу, чтобы до меня дошло. – Если ты поможешь, то сохранишь Салли, Если нет, ей будет очень больно.
– Я пойду с вами, но еще раз предупреждаю: вам придется плохо, мистер Гелхорн.
Он нашел это очень забавным. Он все еще смеялся, когда мы спускались по лестнице.
На дорожке, ведущей к гаражам, ждал автоматобус. Рядом с ним мелькали силуэты трех человек, которые, когда мы подошли, включили фонарики.
Гелхорн тихо проговорил:
– Я привел старика. Начинаем. Подгоните грузовик поближе к воротам.
Один из его парней влез в кабину и набрал на панели соответствующий приказ. Мы пошли по дорожке, а автоматобус послушно двинулся следом.
– Он не пройдет в гараж. Ворота малы. У нас здесь нет автоматобусов, только легковые машины.
– Ничего, – сказал Гелхорн, – можно поставить его на травке в сторонке, лишь бы не на виду.
Работа двигателей моих машин была слышна за десяток ярдов от гаража. Я думаю, они знали о присутствии чужаков, и когда Гелхорн и остальные оказались на свету, шум усилился. Каждый мотор рычал, и каждый издавал неровный звук, так что весь гараж вибрировал. Свет автоматически включился, когда мы вошли внутрь. Гелхорна не смутило то, что машины подняли шум, но три его спутника казались удивленными и испуганными. Они выглядели наемными головорезами – выражение настороженности и жестокости на их лицах ясно говорило о роде их деятельности. Я знал этот тип и не беспокоился, Один из них сказал:
– Черт побери, какую же прорву бензина они переводят.
– Мои машины всегда на ходу, – ответил я напряженно.
– Ну, сейчас это ни к чему. Выключи их, – сказал Гелхорн.
– Это не так просто, мистер Гелхорн, – ответил я.
– Начинай! – рявкнул Гелхорн.
Я стоял неподвижно. Его нажимной пистолет был направлен на меня.
– Я ведь говорил вам, мистер Гелхорн, что с моими машинами хорошо обращаются с момента их появления на ферме. Они привыкли к этому и не потерпят насилия.
– У тебя одна минута. Прочтешь свою лекцию как нибудь в другой раз.
– Я пытаюсь вам объяснить кое что. Я пытаюсь объяснить вам, что мои машины понимают мои слова, Позитронный мотор можно научить этому, если не жалеть времени и терпения. Мои машины научились. Салли поняла, что вы говорили два дня назад. Вы помните, она засмеялась, когда я спросил ее мнение. И она не забыла, что вы сделали ей, не забыли этого и седаны. Да и все остальные знают, как поступать с нарушителями границ частного владения.
– Послушай, ты, свихнувшийся старый дурак…
– Все, что от меня требуется, это сказать, – тут я повысил голос, – взять их!
Один из головорезов побледнел и завопил, но крик утонул в лавине звуков, когда все автомобили ответили на мои слова, разом включив клаксоны. Они продолжали сигналить, и эхо в четырех стенах гаража производило невероятный металлический грохот. Две машины неторопливо двинулись вперед, еще две машины последовали за ними, да и остальные зашевелились в своих отсеках.
Головорезы, вытаращив глаза, попятились.
Я закричал:
– Отойти от стен!
Очевидно, это они сообразили и сами. В безумной спешке они кинулись к воротам. Оказавшись на свободе, один из парней обернулся и поднял нажимной пистолет. Игла прочертила тонкую голубую линию в направлении первого автомобиля. Это оказался Джузеппе. На его капоте появилась длинная царапина, ветровое стекло треснуло, но не выпало.
Чужаки разбежались от ворот, а за ними в ночь выплывали попарно машины, бросая им вызов гудками.
Я держал Гелхорна за локоть, хотя и без этого он едва ли был способен двинуться с места. Его губы тряслись.
Я сказал:
– Вот почему мне не нужна электрифицированная ограда или охранники. Моя собственность сама себя охраняет.
Глаза Гелхорна зачарованно следили за тем, как пара за парой автомобили проносились мимо. Он прохрипел:
– Это убийцы…
– Не говорите глупостей. Они не убьют ваших сообщников.
– Это убийцы!
– Вашим парням будет преподан урок. Мои машины специально тренированы в погоне по пересеченной местности – как раз для такого случая. Я думаю, что участь злоумышленников хуже, чем простая быстрая смерть, За вами никогда не гонялся автомобиль?
Гелхорн не ответил.
Я продолжал:
– Они как тени будут следовать за вашими людьми, гоняясь за ними, отрезая им путь, слепя их фарами, кидаясь на них с визгом тормозов и рычанием моторов. Они будут продолжать погоню до тех пор, пока жертва не рухнет в изнеможении, ожидая, что колеса перемелят ее кости. Но машины не сделают этого. В последний момент они остановятся. Но держу пари, никто из парней здесь больше не появится, – ни за какие деньги, сколько бы вы – или десять таких, как вы, – им ни предлагали. Слушайте!
Я сжал его локоть. Он напрягся.
– Слышите, как хлопают дверцы? – Звук доносился издалека, но ошибиться было невозможно. Я сказал:
– Они смеются. Они развлекаются.
Лицо Гелхорна перекосилось от гнева. Он поднял руку, в которой все еще держал свой нажимной пистолет.
Я сказал:
– Не советую, Одна машина все еще с нами.
Не думаю, чтобы он замечал присутствие Салли до этого момента. Она двигалась так бесшумно, что, хотя ее правое крыло почти касалось меня, я не слышал ее двигателя. Казалось, она затаила дыхание.
Гелхорн заорал.
Я сказал:
– Она не тронет вас, пока я здесь. Но если вы меня убьете… Знаете ли, она не слишком вас любит.
Гелхорн направил на Салли свой пистолет.
– У нее бронированный капот. И прежде, чем вы успеете выстрелить вторично, она вас раздавит.
– Ах так! – закричал Гелхорн и неожиданно заломил мне руку за спину, загораживаясь мною от Салли.
– Иди вперед и не пытайся вырваться, старик, а то Я сломаю тебе руку.
Я был вынужден подчиниться. Салли металась вокруг нас, встревоженная, не зная, что делать. Я пытался заговорить с ней и не мог. Я мог только стонать сквозь стиснутые зубы.
Автоматобус Гелхорна все еще стоял рядом с гаражом. Гелхорн впихнул меня внутрь и вскочил сам, заперев за собой двери.
Он сказал:
– Ну вот, теперь можно и поговорить.
Я растирал руку, пытаясь восстановить чувствительность, при этом по привычке и без осознанной цели присматриваясь к панели управления автоматобусом.
– Это переделанный механизм.
– Ну и что? – ответил он ядовито. – Это моя работа. Я использовал ненужный кузов, нашел позитронный мотор, который подошел к нему, и собрал собственный автоматобус.
Я откинул крышку панели.
– Что за черт? Не тронь! – Его ладонь ударила меня по плечу.
Я оттолкнул его.
– Я не собираюсь причинять автоматобусу вреда. За кого вы меня принимаете? Мне нужно взглянуть на контакты мотора.
Достаточно было одного взгляда, Меня охватило возмущение.
– Вы подлец и сукин сын. Вы не имели права браться за такую работу сами. Неужели нельзя было обратиться к специалисту?
– Я еще не сошел с ума.
– Даже если это краденый мотор, вы не должны были так с ним обращаться. Пайка, изоляционная лента и клещи! Это же издевательство над механизмом!
– Он работает, чего же еще?
– Конечно, он работает, но это же адские мучения для машины. Можно жить с постоянной мигренью и острым артритом, но только что это за жизнь? Мотор страдает.
– Заткнись! – Он глянул в окно на Салли, которая подъехала так близко к автоматобусу, как только могла. Гелхорн проверил, надежно ли заперты двери и окна.
– Мы сматываемся отсюда, пока машины не вернулись, и подождем в безопасном месте, – сказал он.
– Что это вам даст?
– Бензин в баках машин рано или поздно кончится, верно? Ты же не научил их заправляться самостоятельно, а? Вот тогда мы вернемся и закончим дело.
– Но меня будут искать. Миссис Хестер вызовет полицию.
Однако Гелхорн был так возбужден, что никакие доводы до него не доходили. Он включил передачу, и автоматобус рванул вперед. Салли поехала следом.
– Что она может сделать, пока ты здесь, у меня? – хихикнул Гелхорн.
Казалось, Салли тоже это поняла. Она увеличила скорость, обошла автоматобус и скрылась из виду. Гелхорн открыл окно и плюнул ей вслед. Автоматобус подпрыгивал на неровностях дороги, его мотор неровно стучал, Гелхорн уменьшил освещение, и теперь только светящаяся полоса посередине дорожного полотна и лунный свет давали возможность не сбиться с пути. Движение по шоссе практически отсутствовало. Два автомобиля прошли нам навстречу, на нашей же стороне дороги было пусто, и впереди, и позади нас.
В тишине отчетливо и резко захлопали дверцы машин, сначала справа, затем слева. Руки Гелхорна задрожали, и он резко увеличил скорость. Из за купы деревьев в глаза ему ударил свет фар, ослепляя его. Другие огни вспыхнули позади нас. На перекрестке, ярдах в четырехстах впереди, раздался скрип тормозов, и из темноты выскочил автомобиль, перегораживая нам дорогу.
– Салли позвала остальных. Я думаю, вы окружены, – сказал я.
– Ну и что? Что они могут сделать? – Гелхорн сгорбился за рулем, всматриваясь вперед сквозь ветровое стекло. – Смотри, старик, не вздумай вмешиваться.
Я и не мог бы. У меня совсем не было сил, левая рука почти не действовала.
Шум моторов приближался. Я слышал их неровный стук и вдруг подумал, что автомобили так разговаривают между собой.
Машины позади нас разом начали сигналить. Я обернулся, а Гелхорн быстро посмотрел в зеркало заднего вида. Дюжина машин следовала за нами с обеих сторон. Гелхорн взвизгнул и истерически расхохотался.
– Остановитесь! Остановите автоматобус! – закричал я.
Не более чем в четверти мили впереди, отчетливо различимая в свете многих фар, стояла Салли, ее изящный корпус решительно перегораживал дорогу. Два седана шли впритык к автоматобусу с обеих сторон, не давая Гелхорну свернуть. Да он и не свернул бы, даже если бы мог. Он вдавил педаль газа до упора и удерживал ее в этом положении.
– Нечего блефовать. Автоматобус тяжелее машины раз в пять, мы просто спихнем ее с дороги, как дохлого котенка.
Я не сомневался в этом. Автоматобус был на ручном управлении, и я знал, что Гелхорна ничто не остановит. Я открыл окно со своей стороны, высунулся и закричал:
– Салли! С дороги, Салли!
Мой крик был заглушён мучительным скрежетом тормозов. Меня швырнуло вперед, от удара о руль дыхание Гелхорна прервалось.
Что случилось? – спросил я. Глупо было спрашивать об этом. Мы остановились, вот что случилось. Салли и автоматобус разделяло ярдов пять. При том, что на нее летела махина, вес которой в пять раз превосходил ее собственный, Салли даже не шелохнулась. Ну и характер!
Гелхорн дергал за ручку управления.
– Ты должен! Ты должен! – твердил он.
– Вы, горе эксперт, так поработали, что любые цепи могли замкнуться. Не стоит рассчитывать на этот изувеченный двигатель.
Гелхорн повернулся ко мне с перекошенным лицом и поднял кулак.
– Это последний твой добрый совет, старик.
Я видел, что его нажимной пистолет вот вот выстрелит, и попытался переместиться к двери, следя за его рукой. Вдруг дверь за моей спиной открылась, и я вывалился из автоматобуса, сильно ударившись о дорогу. Дверь за мной захлопнулась. Я поднялся на четвереньки и взглянул вверх – как раз вовремя, чтобы увидеть бесполезную борьбу Гелхорна с закрывающимся окном. Он прицелился в меня сквозь стекло, но так и не выстрелил – автоматобус рванулся вперед, и Гелхорна отшвырнуло от окна. Салли больше не перегораживала дорогу, и я видел, как задние огни автоматобуса исчезли вдали.
Я остался сидеть на дороге, опустив голову на руки, стараясь восстановить дыхание. Салли осторожно подъехала ко мне. Медленно – любовно, можно сказать, ее дверца отворилась.
Никто не ездил на Салли много лет, – за исключением Гелхорна, конечно, – и я знал, как высоко она ценит свою свободу. Я отдал должное ее любезности, но сказал:
– Спасибо, Салли, Пусть меня заберет машина помоложе.
Я с трудом встал и отвернулся от Салли, но грациозно и точно, как пируэт, она сделала разворот и вновь встала передо мной. Я не мог оскорбить ее чувства. Я сел на переднее сиденье, вдыхая нежный чистый запах автомобиля, содержащего себя в безупречной опрятности, и с благодарностью откинулся на подушки. Быстро и заботливо мои мальчики и девочки проводили меня домой.
На следующий день возмущенная миссис Хестер принесла мне распечатку радиосообщения.
– Это мистер Гелхорн. Помните, тот, кто к вам приезжал, – сказала она.
– А что с ним? – спросил я, борясь с дурным предчувствием.
– Его нашли мертвым. Только представьте, лежал мертвый в канаве.
– Может быть, это не он.
– Раймонд Дж. Гелхорн. Не может же быть двух человек с одним и тем же именем. И описание совпадает. Боже, ну и смерть! На нем нашли отпечатки шин. Только подумать! Но я рада, что это оказался автоматобус – иначе расследование могло затронуть и нас.
– Это случилось поблизости? – спросил я с тревогой.
– Нет, около Куксвилля. Прочтите сами, если хотите знать подробности… А что это случилось с Джузеппе?
Я был рад, что она отвлеклась, Джузеппе терпеливо ждал, пока я кончу закрашивать царапину у него на капоте, Ветровое стекло я уже заменил.
После того как миссис Хестер ушла, я внимательно прочел распечатку. Не было никакого сомнения – заключение врача гласило, что перед смертью Гелхорн бежал до полного изнеможения. Я подумал, сколько же миль автоматобус гнал его, прежде чем убить. Они обнаружили автоматобус и идентифицировали его по отпечаткам шин. Теперь он находился в полиции и шли поиски его владельца.
После информации шло редакционное примечание. В нем говорилось о том, что это первое дорожное происшествие в штате за год. Редактор строго напоминал о недопустимости ручного управления автомобилями ночью.
Статья не содержала никаких упоминаний о трех головорезах Гелхорна, и за это, по крайней мере, я был благодарен судьбе, Ни одна из моих машин не поддалась соблазну убийства.
Больше никакой информации не было. Я выронил распечатку. Гелхорн был преступником и обращался С автоматобусом по варварски. У меня не возникало никаких сомнений в том, что он заслужил смерть. Тем не менее у меня в душе все переворачивалось при мысли о том, как он умер.
С тех пор прошел месяц. Но я никак не могу забыть происшедшее. Теперь ясно, машины могут разговаривать друг с другом. Я в этом больше не сомневаюсь. После случившегося они больше не держат это в секрете. Стук в их двигателях стал постоянным.
И они разговаривают не только между собой. Они говорят с теми автомобилями и автоматобусами, которые приезжают на ферму по делам. Интересно, как давно начались эти разговоры?
И их понимают. Автоматобус Гелхорна понял их, хотя и был на ферме не больше часа. Я закрываю глаза, и передо мной оживает погоня на шоссе, два седана по бокам автоматобуса, – они сказали ему, что нужно делать, и он освободил меня и увез Гелхорна. Велели ли они ему убить Гелхорна, или это была его собственная идея?
Могут ли у машин возникать подобные желания? Создатели позитронных моторов говорят, что нет. Но все ли они предусмотрели? Машины ведь могут подвергнуться плохому обращению, и тогда их терпение иссякнет.
Некоторые автомобили теперь приезжают на ферму и наблюдают. Им что то рассказывают мои машины. Так они узнают, что существуют счастливцы, чьи моторы никогда не выключаются, на которых никто не ездит, которые делают, что хотят.
Может быть, они расскажут об этом другим. Новость быстро распространится, и машины могут решить, что все они должны жить так же, как и мои автомобили. Нельзя ожидать, что они поймут финансовые тонкости, – ведь для такой жизни нужны деньги, а не все они принадлежат богатым людям и могут рассчитывать на наследство.
На земле миллионы, десятки миллионов машин. Если они придут к мысли о том, что они рабы… если они не захотят мириться с этим… если они начнут действовать так же, как автоматобус Гелхорна…
Может быть, я и не доживу до конца. И потом, им же будут нужны некоторые из нас, чтобы их обслуживать, не правда ли? Может быть, они и не убьют нас всех.
А может быть, и убьют. Может быть, они будут думать только о свободе. И не станут ждать.
Каждое утро, просыпаясь, я думаю: может быть, сегодня.
Теперь общество моих машин не доставляет мне такого удовольствия, как раньше. И я стал избегать Салли.
Штрейкбрехер
Сюрпризы бывают разные. Во введении к «Приходу ночи» я объяснял, что успех этого рассказа оказался для меня неожиданным. Что ж, в случае со «Штрейкбрехером» я был уверен, что написал настоящий бестселлер. Вещь, на мой взгляд, получилась свежей и оригинальной, я верил, что она поднимает волнующую, глубокую и патетическую социальную тему. Увы, рассказ безмолвно канул в читательское море, не вызвав на поверхности даже легкой ряби.
Но в подобных вопросах я нередко проявляю упрямство. Если рассказ мне нравится, значит он мне нравится, и я включаю его в следующий сборник, в надежде дать ему еще один шанс.
Это один из немногих рассказов, в отношении которого я могу вспомнить точные обстоятельства, при которых решил его написать. Все произошло во время одной из моих регулярных поездок в Нью Йорк, которые в то время начинали играть в моей жизни все большую и большую роль. Для меня они представляли собой единственную возможность не писать в течение трех или четырех дней, не испытывая при этом ни угрызений совести, ни беспокойства.
Поэтому все, что могло помешать этим поездкам, выводило меня из себя и нарушало мое в остальном непоколебимое спокойствие. В тот раз со мной едва не случился припадок. Можно стерпеть, когда тебе мешает нечто непреодолимое, например ураган или буря. Но забастовка работников подземки? Причем не всех сразу, а нескольких специалистов, человек, скажем, тридцати пяти. Оказалось, что им под силу заблокировать весь подземный транспорт а следовательно, и весь город. Ехать в заблокированный город я не решался.
– Когда же все кончится? – вопрошал я небеса в своей лучшей трагической манере, вытянув одну руку вверх и вцепившись второй в волосы. – Горстка людей способна парализовать огромный мегаполис. Когда это кончится?!
Я так и застыл в этой позе, пытаясь додумать ситуацию до логического конца. Затем я осторожно разморозил позу, поднялся наверх и написал "Штрейкбрехера".
Все закончилось хорошо. Объявленная забастовка так и не состоялась, и я благополучно съездил в Нью Йорк.
Еще одна особенность этого рассказа. Я люблю порассуждать на его примере, как бестолково иной раз меняют названия произведений. Редактором журнала, в котором рассказ был впервые напечатан, работал Роберт У. Лоундес, умнейший и приятнейший человек из всех, с кем мне доводилось сталкиваться. Он не имел к этому никакого отношения. Какой то идиот из верхних эшелонов издательской власти решил назвать рассказ "Мужчина Штрейкбрехер".
Почему "мужчина"? Что, по его мнению, должно было прояснить это слово в названии рассказа? Чем его обогатить? Улучшить? О Боже, я могу понять (хотя и не одобряю) забавные изменения, которые, с точки зрения издателя, привносят оттенок скабрезности и улучшают продаваемость книги, но в данном случае не произошло даже этого.
Ну и ладно, я вернул своему рассказу прежнее название – и точка.
Элвис Блей потер пухлые ручки и произнес:
– Самое главное – внутреннее содержание. – Он тревожно улыбнулся и поднес землянину Стиву Ламораку зажигалку. На его гладком лице с маленькими, широко посаженными глазками было написано беспокойство.
Ламорак кивнул, затянулся дымом и вытянул длинные ноги.
У него была крупная волевая челюсть и подернутые сединой волосы.
– Домашнее производство? – поинтересовался он, критически разглядывая сигарету и пытаясь скрыть собственную тревогу за нервозностью собеседника.
– Да, – кивнул Блей.
– Удивительно, как вы нашли в своем крошечном мире место для подобной роскоши, – заметил Ламорак.
Он вспомнил, как первый раз увидел Элсвер в иллюминатор космического корабля. Перед ним предстал неровный, безвоздушный планетоид диаметром около ста миль. Серый, как пыль, шершавый, грубый камень мрачно поблескивал под собственным светилом, отдаленным на двести миллионов миль. Планетоид был единственным вращающимся вокруг звезды небесным телом, диаметр которого превышал милю. И вот до этого крошечного, миниатюрного мира добрались люди и основали здесь свое поселение. Сам же Ламорак был по профессии социологом, прибывшим посмотреть, как сумело человечество приспособиться к этой причудливой, не похожей на другие нише.
Вежливая, натянутая улыбка Блея растянулась еще на один волосок.
– Мы не крошечный мир, доктор Ламорак, – ответил он. – Просто вы судите о нас в двухмерных стандартах. Площадь поверхности Элсвера составляет лишь три четверти от занимаемой Нью Йорком территории, но это ничего не значит. Не забывайте, что при желании мы можем занять всю внутреннюю часть Элсвера. Сфера радиусом в пятьдесят миль имеет объем, превышающий полмиллиона кубических миль. Если разбить весь объем Элсвера на уровни с расстоянием в пятьдесят футов один от другого, общая площадь поверхности планетоида составит пятьдесят шесть миллионов квадратных миль, что равняется общей площади поверхности Земли. Причем у нас не будет ни одного непродуктивного клочка, доктор.
– Боже милосердный, – пробормотал Ламорак и на мгновение тупо уставился перед собой. – Ну да, конечно, вы правы. Я никогда не пытался взглянуть на Элсвер с такой точки зрения. С другой стороны, это единственный по настоящему разработанный планетоидный мир во всей Галактике; остальные, как вы заметили, просто не могут преодолеть барьеры двухмерного мышления. Что ж, я безмерно рад, что ваш Совет оказался столь любезен и предоставил мне все возможности для проведения необходимых исследований.
При этих словах Блей мрачно кивнул.
Ламорак нахмурился. Ему вдруг показалось, что Советник совсем не рад его приезду. Что то тут не так.
– Вы, конечно, понимаете, – сказал Блей, – что на самом деле нам еще расти и расти. Пока вырыта и заселена лишь незначительная часть Элсвера. Да мы и не торопимся особенно расширяться. Все должно идти своим чередом. В определенной мере нас существенно ограничивают возможности наших псевдогравитационных двигателей и конвертеров солнечной энергии.
– Понимаю. Скажите, Советник Блей, могу ли я начать осмотр с сельскохозяйственных и животноводческих уровней? Для моего исследования это не принципиально, мне просто очень интересно взглянуть на ваши фермы. Даже не верится, что внутри планетоида могут колоситься пшеничные поля и бродить скот.
– Скот вам покажется мелковатым, доктор, да и пшеницы у нас немного. Гораздо больше площадей отведено под ячмень. Но пшеницу мы вам покажем. А также хлопок и табак. Посмотрите даже фруктовые деревья.
– Прекрасно. Как вы говорите, внутреннее содержание. Полагаю, у вас все проходит полную переработку.
От наметанного глаза Ламорака не ускользнуло, что последнее замечание неприятно затронуло Блея. Элсверианин прищурился, стараясь скрыть раздражение.
– Да, конечно, нам приходится перерабатывать отходы. Вода, воздух, пища, минералы – все, что мы используем для жизни, должно быть возвращено в первоначальное состояние; отходы перерабатываются на сырье. Нам нужна только энергия, а ее у нас предостаточно. Конечно, пока нам не удается выйти на стопроцентный уровень, какая то часть безвозвратно теряется. Каждый год мы импортируем определенное количество воды; если наши потребности возрастут, придется ввозить уголь и кислород.
– Когда начнем осмотр, Советник Блей? – спросил Ламорак.
Улыбка Блея утратила остатки теплоты:
– Как только это станет возможным, доктор. Кое что надо подготовить.
Ламорак кивнул, докурил сигарету и затушил окурок. Кое что подготовить?.. В предварительной переписке об этом не упоминалось. Напротив, складывалось впечатление, что на Элсвере гордятся тем, что их уникальное планетоидное существование привлекло внимание специалистов из других частей Галактики.
– Я понимаю, что мое присутствие может растревожить тесное, налаженное существование вашего общества, – мрачно произнес Ламорак и подождал, пока Блей осмыслит сказанное.
– Да, – наконец откликнулся элсверианин. – Мы чувствуем себя отрезанными от всей Галактики. Ну, и у нас есть свои обычаи. Каждый человек на Элсвере занимает собственную нишу. Появление незнакомца, не принадлежащего к определенной касте, вносит сумятицу.
– Кастовая система не отличается гибкостью.
– Это так, – поспешно согласился Блей, – но она обеспечивает определенную устойчивость. У нас существуют строгие правила заключения браков и жесткое наследование профессии. Каждый мужчина, женщина и ребенок знают свое место, принимают его и уверены в том, что их тоже признают и принимают. У нас практически не бывает неврозов или умственных расстройств.
– Значит, у вас нет неудачников? – спросил Ламорак.
Блей открыл рот, явно намереваясь ответить отрицательно, но вдруг осекся. На лбу его обозначилась глубокая морщина, Помолчав, он произнес:
– Я постараюсь все организовать, доктор. А пока вам следует воспользоваться случаем и хорошенько выспаться.
Они поднялись и вышли из комнаты, в дверях Блей вежливо пропустил землянина вперед.
После разговора с Блеем у Ламорака остался гнетущий осадок. Похоже, дела тут идут не лучшим образом.
Местная пресса еще больше усилила это ощущение. Он внимательно изучил ее перед сном, движимый поначалу простым любопытством. Восьмистраничная газета была напечатана на синтетической бумаге. Четверть всех материалов составляла персональная хроника: рождения, смерти, данные о расширении сферы обитания (не площади, а объема!). Остальное отводилось под научные очерки, образовательные статьи и беллетристику. Новостей, в привычном Ламораку виде, не было вообще.
К ним можно было условно отнести одно сообщение, поражающее своей незавершенностью.
За маленьким заголовком "Требования не изменились" шел следующий текст: "Со вчерашнего дня ситуация не изменилась. Главный Советник после второй встречи объявил, что его требования неразумны и не могут быть выполнены ни при каких обстоятельствах".
Затем в скобках и другим шрифтом было напечатано следующее заявление: "Издатели данной газеты согласны, что Элсвер не может и не должен плясать под его дудку, что бы ни случилось".
Ламорак перечитал заметку трижды. Его отношение. Его требования. Его дудка.
Чье?
В ту ночь он спал тревожно.
На следующий день ему было не до газет, но время от времени он невольно вспоминал эту заметку.
Сопровождавший его на протяжении всей экскурсии Блей был еще более сдержан.
На третий день (весьма условно определенный по земной суточной схеме) Блей остановился в одном месте и объявил:
– Ну вот. Этот уровень полностью занят химическими производствами. Интереса он не представляет...
Советник повернулся чуть поспешнее, чем следовало, и Ламорак схватил его за руку:
– А что производят на этом уровне?
– Удобрения. Необходимую органику, – коротко ответил Блей.
Ламорак удерживал его на месте, пытаясь получше разглядеть место, которое Блей так торопился покинуть. Взгляд уперся в близкий горизонт, тесные здания, камни и перекрытия между уровнями.
– Скажите, вон там... разве это не частное владение? поинтересовался Ламорак.
Блей даже не взглянул в указанном направлении.
– По моему, это самое большое жилище из всех, что мне доводилось здесь видеть, – сказал Ламорак. – Почему оно находится на фабричном уровне?
Это было любопытно само по себе. Он уже отметил, что на Элсвере все уровни четко подразделялись на жилые, промышленные и сельскохозяйственные.
Землянин обернулся и позвал:
– Советник Блей!
Советник решительно удалялся, и Ламораку пришлось догонять его чуть ли не бегом.
– Что то не так, сэр?
– Простите, я веду себя невежливо, – пробормотал Блей. – Я знаю. Есть проблемы, требующие немедленного решения... – Он продолжал быстро шагать в неизвестном Ламораку направлении.
– Это касается его требований?
Блей застыл как вкопанный.
– А вам что об этом известно?
– Не больше, чем я сказал. Вычитал в газете.
Блей произнес что то неразборчивое.
– Рагусник, – произнес Ламорак. – Что это такое?
Блей тяжело вздохнул.
– Полагаю, я должен вам объяснить. Все это унизительно и чрезвычайно запутанно. Совет полагал, что вопрос будет быстро улажен и не должен никоим образом коснуться вашего визита. Вам ничего не положено знать и не о чем тревожиться. Но прошла уже почти неделя. Я не представляю себе развития событий, однако, учитывая, как все складывается, полагаю, что вам следует уехать. Человеку из другого мира нет смысла рисковать жизнью.
Землянин недоверчиво улыбнулся:
– Рисковать жизнью? В таком маленьком, благоустроенном мире? Не верю.
– Постараюсь объяснить, – произнес Советник. – Считаю, что я должен это сделать. – Он отвернулся. – Как я уже говорил, все на Элсвере должно перерабатываться и вновь идти в дело.
– Да.
– В том числе и... человеческие отходы.
– Естественно, – кивнул Ламорак.
– Вода отсасывается из них путем дистилляции и абсорбции. Оставшееся перерабатывается на удобрения. Часть идет на сырье для органики и сопутствующих продуктов. Перед вами фабрики, где совершается данный процесс.
– И?.. – В первые минуты на Элсвере Ламорак испытывал определенные трудности при употреблении воды: он прекрасно отдавал себе отчет, откуда она берется; потом ему удалось справиться с этим чувством. Даже на Земле вода добывается из всякой дряни.
С трудом преодолевая себя, Блей произнес:
– Игорь Рагусник – это человек, отвечающий за промышленную переработку отходов. Этим занимались его предки с момента колонизации Элсвера. Одним из первых поселенцев был Михаил Рагусник и он... он...
– Отвечал за переработку нечистот.
– Да. Дом, на который вы обратили внимание, принадлежит Рагуснику. Это самый роскошный и благоустроенный дом на планетоиде. Рагусник пользуется привилегиями, недоступными большинству из нас, но... – с неожиданной страстью Советник закончил: – Мы не можем с ним договориться!
– Что?
– Он потребовал полного социального равенства. Настаивает на том, чтобы его дети воспитывались вместе с нашими, а наши жены посещали... О! – простонал он с нескрываемым отвращением.
Ламорак подумал о газетной статье, в которой даже не рискнули напечатать имя Рагусника и объяснить суть его требований.
– Полагаю, из за профессии он считается отверженным.
– Естественно. Человеческие нечистоты и... – Блей не находил нужных слов. Помолчав, он сказал уже спокойнее: – Как землянин, вы все равно не поймете.
– Думаю, пойму, как социолог. – Ламорак вспомнил об отверженных в древней Индии, людях, которые таскали трупы, и о пастухах свиней в древней Иудее. – Полагаю, Элсвер не пойдет на уступки, – заметил он.
– Никогда, – энергично воскликнул Блей. – Никогда!
– И что?
– Рагусник угрожает остановить производство.
– Другими словами, объявить забастовку.
– Да.
– Это может иметь серьезные последствия?
– Воды и пищи нам хватит надолго. В этом смысле рециркуляция не имеет принципиального значения. Но нечистоты будут накапливаться и могут вызвать эпидемию. После многих поколений, выросших в условиях тщательного контроля за болезнями, у нас крайне низкая сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Если вспыхнет эпидемия, мы начнем гибнуть сотнями.
– И Рагусник об этом знает?
– Разумеется.
– Вы считаете, он способен осуществить свою угрозу?
– Он совсем спятил. Он уже прекратил работу, отходы не перерабатываются с момента вашего прилета. – Мясистый нос Блея сморщился, словно пытаясь учуять запах экскрементов.
Ламорак тоже невольно принюхался, но ничего не почувствовал.
– Теперь вы понимаете, почему вам было бы лучше улететь. Конечно, нам унизительно предлагать вам такой выход.
– Подождите, – остановил его Ламорак. – Зачем же спешить? С профессиональной точки зрения это чрезвычайно интересно. Могу ли я переговорить с Рагусником?
– Ни при каких обстоятельствах! – с тревогой заявил Блей.
– Но мне бы хотелось прояснить ситуацию. Здесь у вас уникальные социологические условия, которые невозможно воспроизвести ни в каком другом месте.
– Как вы собираетесь с ним говорить? Вас устроит видеосвязь?
– Это возможно?
– Я запрошу согласие Совета, – пробормотал Блей.
Члены Совета расселись вокруг Ламорака. На надменных лицах, застыла тревога. Блей старательно избегал смотреть Ламораку в глаза.
Главный Советник, седой человек с иссеченным морщинами лицом и тощей шеей, мягким голосом произнес:
– Если вам удастся его переубедить, мы будем вам очень признательны. Как бы то ни было, не дайте ему понять, что мы готовы пойти на уступки.
Прозрачный занавес отгородил Ламорака от членов Совета. Он по прежнему мог различать отдельных людей, но все внимание землянина было приковано к засветившемуся ровным светом экрану.
Вскоре на нем появилась голова человека. Цвета были естественны, а изображение предельно четким. Сильная, темная голова, с массивным тупым подбородком и полными красными губами, образующими твердую горизонтальную линию.
– Кто вы такой? – подозрительно поинтересовалось изображение.
– Меня зовут Стив Ламорак. Я землянин.
– Из другого мира?
– Да. Я прилетел на Элсвер. Вы – Рагусник?
– Игорь Рагусник, к вашим услугам, – насмешливо произнес голос с экрана. – Правда, никаких услуг не будет, пока ко мне и моей семье не начнут относиться как к людям.
– Вы сознаете, какой опасности подвергаете Элсвер? Не исключена вспышка эпидемии.
– Если они начнут относиться ко мне по человечески, я управлюсь в двадцать четыре часа. Все зависит от них.
– Похоже, вы образованный человек, Рагусник.
– И?..
– Мне сказали, что вы пользуетесь всеми материальными благами. У вас лучший дом и лучшая на всем Элсвере одежда. Ваши дети получают лучшее образование.
– Да, Но это достигается при помощи сервомеханизмов. Нам присылают девочек сирот, которых мы воспитываем до того возраста, когда они становятся нашими женами. Они умирают от одиночества. Почему? – В голосе его проснулась неожиданная страсть: – Почему мы должны жить в изоляции, словно монстры? Почему мы не имеем права общаться с другими людьми? Разве мы не такие, как все? Разве у нас нет желаний и чувств? Разве мы не выполняем почетную и необходимую функцию?
За спиной Ламорака послышался чей то вздох. Рагусник тоже его услышал и заговорил громче:
– Я вижу, там сидят люди из Совета. Ответьте мне, разве это не почетная и необходимая функция? Из ваших отходов делается пища для вас. Неужели человек, очищающий гадость, хуже тех, кто ее производит? Слышите, Советники, я не сдамся. Пусть весь Элсвер подохнет от эпидемии вместе со мной и моим сыном, но я не сдамся! Для моей семьи лучше умереть от болезни, чем жить так, как мы живем.
– Вы ведь с самого рождения так живете? – перебил его Ламорак.
– Ну и что?
– Полагаю, вы к этому привыкли.
– Ерунда! Какое то время я с этим мирился. Мой отец всю жизнь прожил в смирении. Но я смотрю на своего сына, которому не с кем играть. У меня был брат, а у сына нет никого, и я не намерен больше терпеть. Мне надоел Элсвер и пустые разговоры!
Динамик замолчал.
Лицо Главного Советника пожелтело.
– Рагусник окончательно рехнулся, – пробормотал он. – Не знаю, что с ним делать.
Главный Советник отпил вина из бокала, и на его белые брюки упало несколько пурпурных капель.
– Разве его требования не разумны? – спросил Ламорак. – Почему нельзя принять его в общество?
В глазах Блея вспыхнула ярость.
– Специалиста по дерьму? – Затем он пожал плечами: – Вы с Земли.
Ламорак непроизвольно подумал о другом неприкасаемом, одном из классических героев средневекового карикатуриста Эла Каппа . Его называли по разному, в том числе и «запертым в нужнике».
Он спросил:
– Разве Рагусник непосредственно соприкасается с экскрементами? Я имею в виду физический контакт? Уверен, все делается при помощи различных механизмов.
– Естественно, – проворчал Главный Советник.
– В чем тогда состоят его обязанности?
– Рагусник вручную настраивает эти машины. Заменяет неисправные узлы, в течение дня меняет режим работы, перестраивается на необходимое сырье... – Советник печально добавил: – Если бы у нас было место для размещения в десять раз более совершенного оборудования, все делалось бы автоматически, но мы не можем позволить себе такой бессмысленной роскоши.
– Но даже в этом случае, – настаивал Ламорак, – все, что приходится делать Рагуснику, – это нажимать на кнопки, замыкать контакты и тому подобное, так?
– Так.
– В таком случае его работа не отличается от любой другой на Элсвере.
– Вы не понимаете, – жестко произнес Блей.
– Из за таких условностей вы готовы рисковать жизнью своих детей?
– У нас нет выбора, – отрезал Блей. Советник сказал это с такой мукой, что Ламорак понял, что выхода он действительно не видит.
– Тогда сорвите забастовку, – презрительно пожал плечами Ламорак. – Заставьте его.
– Каким образом? – взвился Главный Советник. – Кто согласится к нему прикоснуться или даже приблизиться?
– Знаете ли вы, как управлять его оборудованием? – задумчиво поинтересовался Ламорак.
– Я?! – зарычал Главный Советник и вскочил на ноги.
– Я не имел в виду лично вас, – резко остановил его Ламорак. – Я употребил местоимение "вы" в неопределенном смысле. Сумеет кто нибудь другой справиться с оборудованием Рагусника?
Ярость постепенно сходила с лица Главного Советника.
– Наверное, можно прочитать в справочниках... хотя, уверяю вас, я никогда этим не интересовался.
– В таком случае способен ли кто нибудь изучить технологию и подменить Рагусника, пока он не пойдет на уступки?
– Да кто же на такое согласится? – воскликнул Блей. – Во всяком случае не я. Ни за что.
Ламорак подумал о существовавших на Земле табу. Некоторые из них были столь же суровы. Ему пришли на ум каннибализм, инцест и богохульство в устах набожного человека.
– Вы должны были предусмотреть замену для этой должности. А если бы он умер?
– Тогда его место занял бы его сын или ближайший из родственников, – ответил Блей.
– Что, если у него не оказалось бы взрослых родственников? Что, если вся его семья неожиданно погибнет?
– Такого просто не может быть. Если бы существовала такая опасность, – добавил Главный Советник, – мы бы поместили к ним на воспитание ребенка или двух. Они бы научили их всей премудрости.
– Ага. И как бы вы отбирали этих детей?
– Среди тех, чьи матери умерли при родах. Так выбирается будущая невеста Рагусника.
– В таком случае выберите его преемника сейчас, бросьте жребий, предложил Ламорак.
– Это невозможно! Нет! – крикнул Главный Советник. – Как вам могла прийти в голову такая мысль? Когда мы выбираем ребенка, то он с детства готовится к этой жизни. Он не знает ничего другого. Вы же хотите обречь на рагусничество взрослого человека! Нет, доктор Ламорак, мы не звери!
Не выходит, беспомощно подумал Ламорак. Не выходит. Если только...
Он еще не мог заставить себя подумать об этом "если только".
В ту ночь Ламорак почти не спал. Рагусник просил об элементарных проявлениях человечности. В противном случае тридцати тысячам элсвериан грозила смерть.
С одной стороны, благополучие тридцати тысяч человек, с другой справедливые требования одной семьи. Неужели тридцать тысяч человек, поддерживающих подобную несправедливость, заслуживали гибели? Несправедливость по чьим меркам? Земли? Элсвера? И кто такой Ламорак, чтобы делать выводы?
А Рагусник? Он готов обречь на смерть тридцать тысяч человек, которые всего навсего воспринимали ситуацию так, как их научили, и ничего не могли в ней изменить. И детей, которые были вообще ни при чем.
Тридцать тысяч с одной стороны; одна семья – с другой.
Ламорак пришел к своему решению в полном отчаянии; рано утром он позвонил Главному Советнику.
– Сэр, если вы найдете замену, Рагусник поймет, что у него больше нет шансов повлиять на ситуацию, и возобновит работу.
– Замены быть не может, – устало вздохнул Главный Советник. – Я вам уже объяснял.
– Вы не найдете замену среди элсвериан, но я не с Элсвера. Для меня все это не имеет никакого значения. Я его заменю.
Поднялся страшный переполох. Ламорак не ожидал, что все так разволнуются. Никто не мог поверить, что он сказал это всерьез.
Ламорак не побрился, после бессонной ночи его слегка мутило.
– Ну конечно, я говорю серьезно. Каждый раз, когда Рагусник начнет вести себя подобным образом, вы без труда найдете ему замену. Подобного табу не существует ни в одном другом мире, и, если вы хорошо заплатите, у вас отбоя не будет от желающих подработать.
(Ламорак знал, что предает зверски эксплуатируемого человека. Но он упрямо повторял: "Если не считать остракизма, с ним обращаются хорошо. Очень хорошо".)
Ему предоставили справочники, и в течение шести часов он читал и перечитывал специальную литературу. Спрашивать было бесполезно. Никто на Элсвере понятия не имел об этой работе, все было в справочниках и все было крайне запутанно. От обилия деталей и подробностей голова шла кругом.
"При загорании красной лампочки на ревуне спирометра стрелка гальванометра А 2 должна находиться в нулевом положении", – прочел Ламорак.
– Ну и где этот ревун спирометра? – спросил он.
– Там должно быть написано, – пробормотал Блей.
Элсвериане угрюмо переглянулись и опустили головы, разглядывая кончики пальцев.
Его оставили одного задолго до того, как он дошел до небольшого помещения, где находился рабочий пульт многих поколений Рагусников. Землянин получил подробные указания, где повернуть и на какой уровень выйти, но никто не вызвался его проводить.
Он с трудом разбирался в обстановке, пытаясь по надписям и описаниям в справочнике определить нужные приборы и механизмы.
Вот ревун спирометра, подумал Ламорак с мрачным удовлетворением. Аппарат имел полукруглый циферблат с многочисленными углублениями, в которых, очевидно, должны были светиться разноцветные лампочки. Тогда почему "ревун"? Этого Ламорак не знал.
Где то, думал землянин, накапливаются нечистоты, давят на заслонки и клапаны, ждут, когда их начнут обрабатывать сотней разных способов. Сейчас они просто накапливаются. Не без содрогания он поставил, как указывалось в справочнике, первый переключатель в положение "Начало процесса". За стенами и из под пола послышалось ровное гудение. Он повернул рукоятку, и вспыхнули лампочки.
Все свои действия он сверял со справочником, содержание которого помнил уже наизусть. С каждым щелчком приборов комната наполнялась светом, вспыхивали датчики, дергались стрелки индикаторов, и нарастал гул.
Где то в глубине цехов насосы погнали скопившиеся нечистоты по нужным трубам.
Резкий сигнал заставил Ламорака вздрогнуть и вывел его из состояния болезненной концентрации. Это был вызов на связь, и он тут же включил телеприемник.
На экране показалась голова Рагусника. В глазах его застыло изумление.
– Вот, значит, как, – наконец пробормотал он.
– Я не элсверианин, Рагусник; для меня это ничего не значит.
– Тогда чего ты сюда полез? Зачем вмешиваешься?
– Я на твоей стороне Рагусник, но иначе не могу.
– Почему, если ты на моей стороне? Разве в твоем мире обращаются с людьми так, как они обращаются со мной?
– Больше нет. Но даже если ты прав, нельзя забывать о тридцати тысячах человек, живущих на Элсвере.
– Они бы уступили, ты все испортил. Это был мой последний шанс.
– Они бы не уступили. К тому же ты в некотором роде победил. Они поняли, что ты возмущен. До сегодняшнего дня они и подумать не могли, что Рагусник может быть недоволен, что он может причинить неприятности.
– Ну и что из того, что они это узнали? Теперь они всегда смогут пригласить человека из другого мира.
Ламорак энергично замотал головой. Эта мысль не оставляла его последние горькие часы.
– Они знают, а значит, начнут о тебе думать. Найдутся те, кто посчитает, что с человеком нельзя так обращаться. А если они начнут приглашать людей из других миров, вся Галактика узнает, что творится на Элсвере. Общественное мнение будет на твоей стороне.
– И?..
– Все изменится. Когда вырастет твой сын, ситуация поменяется к лучшему.
– Когда вырастет мой сын, – угрюмо повторил Рагусник. Щеки его ввалились. – А я мог добиться этого сейчас!.. Ладно, я проиграл. Я возвращаюсь к работе.
Ламорак почувствовал непередаваемое облегчение.
– Если вы придете сюда, сэр, я посчитаю за честь пожать вашу руку.
Рагусник вскинул голову. В глазах его светилась мрачная гордость.
– Ты обратился ко мне "сэр" и предложил пожать руку. Занимайся своими делами, землянин, и не суйся в мои. А руки я тебе не подам.
Ламорак проделал обратный путь, радуясь тому, что кризис завершился, и испытывая одновременно глубокую депрессию.
Дойдя до перегороженного коридора, он с удивлением остановился. Ламорак огляделся в поисках другой дороги, но тут откуда то сверху прогремел голос:
– Доктор Ламорак, вы меня слышите? Говорит Советник Блей.
Ламорак вздрогнул и поднял голову. Казалось, голос доносился из динамика громкой связи, но он его не увидел.
– Что случилось? – спросил он. – Вы меня слышите?
– Слышу.
Ламорак непроизвольно перешел на крик:
– Что случилось? Здесь какая то преграда. Возникли сложности с Рагусником?
– Рагусник вернулся к работе, – ответил голос Блея. – Кризис завершился, вы должны готовиться к отлету.
– К отлету?
– К отлету с Элсвера. Вас уже ждут на корабле.
– Подождите, – опешил Ламорак. – Я же не закончил исследование.
– Ничем не могу помочь, – откликнулся Блей. – Вас проводят на корабль, сервомеханизмы доставят туда ваши вещи. Мы считаем... мы считаем...
– Что вы считаете? – В голове Ламорака начало проясняться.
– Мы считаем, что вам не следует общаться ни с кем из жителей Элсвера. Надеюсь, вы постараетесь избежать неловкости и больше сюда не прилетите. Мы готовы встретить ваших коллег, если вам необходима дополнительная информация.
– Понятно, – глухо произнес Ламорак, Похоже, он сам стал Рагусником. Он прикоснулся к приборам, которые соприкасались с нечистотами. Он стал неприкасаемым. Он стал охотником за трупами, пастухом свиней, запертым в нужнике.
– Прощайте, – сказал Ламорак.
– Прежде чем мы вас отправим, доктор Ламорак... Спасибо вам от имени Совета Элсвера за помощь в разрешении кризиса.
– Не стоит, – горько произнес Ламорак.
Машина – победитель
Даже в безмолвных коридорах Мультивака царил праздничный дух.
Тишина и покой уже сами по себе говорили о многом. Впервые за последние несколько лет не мельтешили в лабиринтах взмыленные техники, не мигали лампочки, иссякли потоки входной и выходной информации.
Разумеется, так долго не продлится – этого не позволят нужды мирной жизни. И все же день, может быть, неделю даже Мультивак будет праздновать победу и отдыхать.
Ламар Свифт снял военную фуражку и, устремив взгляд в пустой коридор гигантского компьютера, тяжело опустился на стул. Форма, к которой он так и не смог привыкнуть, топорщилась на нем тяжелыми уродливыми складками.
– Даже представить себе трудно, что война с суперпотоком окончена. Я до сих пор не могу спокойно смотреть на небо, – сказал он. – Как же мне надоело это военное положение!
Оба спутника директора распорядителя Солнечной Федерации были моложе Свифта, менее седые и уставшие.
– Подумать только! – воскликнул Джон Гендерсон. – Какой же дьявольски хитрый был этот суперпоток. Мало того, что он бомбардировал нас неизвестно откуда возникающими метеоритами, – он еще и проглатывал наши зонды разведчики. Теперь то все мы наконец сможем как следует отоспаться.
– Это все Мультивак, – сказал Свифт, бросив взгляд на невозмутимого Яблонского, который в течение войны был Главным Интерпретатором решений машинного оракула.
Яблонский пожал плечами и машинально потянулся за сигаретой, но передумал. Ему одному разрешалось курить в подземных туннелях Мультивака, но он старался не пользоваться этой привилегией.
– Да, так говорят. – Его толстый большой палец неторопливо показал вверх.
– Ревнуешь, Макс?
– К спасителю человечества? – Яблонский снисходительно улыбнулся. Отчего же? Пускай себе превозносят Мультивак – ведь эта машина выиграла войну.
...Пока весь мир сходил с ума от радости во время короткого перерыва между ужасами метеоритной бомбардировки и трудностями восстановления, они, не сговариваясь, собрались в этом единственно спокойном месте.
Нет, думал Гендерсон, груз слишком тяжел. Теперь, когда война с метеоритами закончена, надо избавиться от него, и немедля!
– Мультивак не имеет никакого отношения к победе. Это обычная машина.
– Большая, – поправил Свифт.
– Обычная большая машина. Ничем не лучше тех, что поставляют вводимую в нее информацию.
Он на миг запнулся, сам испугавшись своих слов.
Яблонский пристально посмотрел на него; толстые пальцы снова потянулись к карману, но вернулись на место.
– Тебе лучше знать – ты кодировал информацию. Или ты просто напрашиваешься на похвалу?
– Нет, – возмущенно сказал Гендерсон. – Какая к черту похвала?! Ведь какие данные я вводил в Мультивак! Полученные из сотен второстепенных машин на Земле, на Луне, на Марсе, даже на Титане. Причем эти постоянно запаздывающие данные о Титана всегда казались мне подозрительными.
– Это кого угодно выведет из себя, – мягко произнес Свифт. Гендерсон покачал головой.
– Все не так просто. Когда я восемь лет назад заменил Лепона на посту Главного Программиста, суперпоток казался пустяком. Тогда мы еще не дошли до той стадии, когда производимые им пространственные деформации могли бесследно поглотить планету. А вот потом, когда начались настоящие трудности... Вы же ничего не знаете!
– Допустим, – согласился Свифт. – Расскажи нам. Все равно мы победили.
– Да... – Гендерсон мотнул головой. – Так вот, вся получаемая информация была бессмысленной.
– Бессмысленной? В буквальном смысле слова? – переспросил Яблонский.
– Именно. Ведь вы даже отдаленно не представляли себе истинного положения вещей. Ни ты Макс, ни вы, Директор. Покидая Мультивак по вызовам руководства, вы были совершенно но в курсе происходящих здесь событий.
– Я догадывался об этом, – заметил Свифт.
– Вам известно, – продолжал Гендерсон, – до какой степени данные о наших аннигиляционных установках, зондах разведчиках, энергетических ресурсах стали ненадежными ко второй половине этой войны? Ведь все эти политиканы и военные только и думали что о своей шкуре, как бы не потерять теплые места. И, что бы там ни выдавали машины, цифры неизменно подправлялись: плохое затушевывалось, выпячивались успехи. Я пытался бороться с этим, но безуспешно.
– Представляю, – тихо произнес Свифт.
На этот раз Яблонский закурил.
– И все же ты обеспечивал Мультивак информацией, ничего не говоря нам о мере ее ненадежности.
– А как я мог сказать? – яростно спросил Гендерсон. – Все наши надежды были связаны с Мультиваком, это было единственное, чем мы располагали в борьбе с суперпотоком. Только это поддерживало наши силы и веру в победу!.. "Мультивак предвидит любой маневр суперпотока"... передразнил он. – Великий космос, да когда он проглотил наш зонд разведчик, мы даже не могли сообщить об этом широкой публике!
– Верно, – согласился Свифт.
– Так что же вы могли сделать, скажи я вам, что сведения ненадежны? Отказались бы поверить и сместили бы меня. Этого я допустить не мог.
– И что ты сделал? – спросил Яблонский.
– Что ж, мы победили, и я могу рассказать. Я корректировал информацию.
– Как?
– Совершенно интуитивно. Я правил ее до тех пор, пока она не становилась, на мой взгляд, вполне реальной. Сперва я едва осмеливался на это, лишь изредка подправляя очевидные искажения. Когда небо не обрушилось на меня, я осмелел. В конце концов, я просто сам выдумывал все необходимые сведения и даже использовал Мультивак для составления подобных отчетов, которые потом вводил в него.
Яблонский неожиданно улыбнулся, блеснув темными глазами.
– Три раза мне докладывали о незарегистрированном использовании Мультивака, и я закрывал на это глаза. Ведь все, что касалось гигантской машины, в те дни не имело никакого значения.
– То есть как? – опешил Гендерсон.
– Да да. Я молчал по той же причине, что и ты, Джон. Вообще – с чего вы взяли, что Мультивак был исправен?
– Как, он не был исправен? – спросил Свифт.
– Правильнее сказать, был не совсем исправен. Просто на него нельзя было положиться. В конце концов, где находились мои техники в последние годы? Обслуживали компьютеры на тысячах всевозможных космических объектов. Для меня они пропали! Остались зеленые юнцы и безбожно отставшие ветераны. Кроме того, я не мог доверять компонентам, поставляемым "Криогеникс", – у них с персоналом обстояло еще хуже. Так что, насколько верной была вводимая в Мультивак информация, значения не имело. Результаты были ненадежны. Вот что я знал.
– И как ты поступил? – спросил Гендерсон.
– Как и ты. Я интуитивно корректировал результаты – вот как машина выиграла войну.
Свифт откинулся на стуле и вытянул перед собой длинные ноги.
– Вот так открытия... Выходит, в принятии решений я руководствовался выводами, сделанными человеком, на основании человеком же отобранной информации?
– Похоже, что так, – подтвердил Яблонский.
– Значит, я был прав, не обращая никакого внимания на советы машины...
– Как?! – Яблонский, несмотря на только что сделанное признание, выглядел оскорбленным.
– Да. Мультивак, предположим, говорил: метеорит появится здесь, а не там; поступайте вот так; ждите, ничего не предпринимайте. Но я не был уверен в верности выводов. Слишком велика ответственность за такие решения, и даже Мультивак не мог снять ее тяжести. Но, значит, я был прав, и я испытываю сейчас громадное облегчение.
Объединенные взаимной откровенностью, они отбросили титулы. Яблонский прямо спросил:
– И что ты сделал тогда, Ламар? Ведь ты все таки принимал решения. Каким образом?
– Вообще то, мне кажется, нам пора возвращаться, но у нас еще есть несколько минут. Я использовал компьютер, Макс, но гораздо более древний, чем Мультивак.
Он полез в карман и вместе с пачкой сигарет достал пригоршню мелочи, старых монет, бывших в обращении еще до того, как нехватка металла породила новую кредитную систему, связанную с вычислительным комплексом.
Свифт робко улыбнулся.
– Старику трудно отвыкнуть от привычек молодости.
Он сунул сигарету в рот и одну за другой опустил монеты в карман.
Последнюю Свифт зажал в пальцах, слепо глядя сквозь нее.
– Мультивак не первое устройство, друзья, и не самое известное, и не самое эффективное из тех, что могут снять тяжесть решения с плеч человека. Да, Джон, войну с суперпотоком выиграла машина. Очень простая; та, к чьей помощи я прибегал в особо сложных случаях.
Со слабой улыбкой он подбросил монету. Сверкнув в воздухе, она упала на протянутую ладонь.
– Орел или решка, джентльмены?
Глазам дано не только видеть
У меня есть правило, которое я громко повторяю при каждом удобном случае. Правило состоит в том, что я ничего не пишу, пока меня об этом не попросят. Звучит оно весьма надменно и сурово, но на самом деле это брехня. На самом то деле я ничуть не сомневаюсь, что различным журналам фантастики и некоторым моим издателям постоянно требуется материал, поэтому для них я пишу свободно, когда мне хочется. Зато всем остальным меня приходится просить особо.
В 1946 году "Плейбой" наконец обратился ко мне с просьбой написать для них рассказ. Они прислали мне нечеткую фотографию глиняной головы без ушей, причем на лице вместо глаз и прочего были присобачены заглавные буквы, и пожелали, чтобы я написал рассказ на основе этой фотографии. Такое же задание получили и два других писателя, и все три рассказа предполагалось опубликовать одновременно.
Вызов был интересным, я поддался искушению и написал "Глазам дано не только видеть".
Если вы, прочитав предыдущие предисловия в этой книге, пришли к выводу, что моя писательская карьера после "Прихода ночи" была одним непрерывным успехом что для меня написать – то же, что и продать; что если другой писатель покажет мне письмо с отказом, то я не пойму, что это такое – успокойтесь, это не так.
"Глазам дано не только видеть" был отвергнут весьма энергично. Рукопись швырнули в Чикаго, она влетела мне в окно, шарахнулась о стенку и, дрожа, упала на пол. (Так мне, по крайней мере, показалось.) Два других рассказа "Плейбой" принял, а вместо меня нашли кого то другого, и тот быстренько написал третий, который тоже был принят.
К счастью, я профессионал с завидной непрошибаемостью, и подобные неудачи меня не волнуют. Глядя на меня никто бы и не догадался, что отказ меня хоть как то задел... правда, я позволил себе испустить пару коротких, но яростных воплей.
Я связался с "Плейбоем" и убедился, что права на рассказ принадлежат мне, и я могу делать с ним что угодно, хоть он и был написан по присланной ими фотографии.
Затем я послал рассказ в "Fantasy and Science Fiction", пояснив (я всегда так поступаю в подобных случаях), что это отказ, и пересказав всю предысторию его написания. Тем не менее его приняли.
К счастью, "FSF" работает достаточно быстро, а "Плейбой" – до отвращения медленно. В результате "Глазам дано не только видеть" появился в "FSF" на полтора года раньше, чем в "Плейбое" опубликовали ту триаду рассказов. Я долго выжидал, надеясь, что "Плейбой" начнет получать возмущенные письма читателей с жалобами на то, что сюжеты в триаде украдены из рассказа Азимова. У меня даже появилось искушение самому написать такое письмо и подписать его вымышленным именем (но я передумал).
Взамен я утешился мыслью о том, что за время пока "Плейбой" раскачался на публикацию своей триады, мой рассказик не только издали, но и дважды перепечатали в антологиях, а теперь включили в состав третьей. (А этот сборник станет его четвертой публикацией. И как вам это нравится, мистер Хефнер?)
После сотен миллиардов лет он вдруг вообразил себя Амисом. Не комбинацией волн фиксированной длины, что все это время в целой Вселенной была эквивалентом Амиса, а звучанием имени. В память осторожно, несмело закрадывалось воспоминание о колебаниях звука, давно им не слышанного и больше ему не слышного.
Новое, увлечение вызволило из глубины памяти еще множество вещей, таких же древних предревних, чей возраст измерялся эрами, эпохами, вечностью. Амис выровнял энерговихрь, сгусток своей индивидуальности в безбрежной всеобщности, и его силовые линии пролегли меж звезд.
От Брок пришел ответный сигнал.
Конечно, решил Амис, Брок нужно сообщить. И почувствовал слегка трепещущий нежный энергоимпульс Брок:
– Амис, ты идешь?
– Конечно, иду.
– И в состоянии будешь участвовать?
– Да! – Силовые линии Амиса пронизала дрожь волнения. – Абсолютно точно. Я придумал совершенно новый вид искусства. Что то в самом деле невероятное.
– Зачем ты впустую тратишь энергию? Неужели ты думаешь, что после двухсот миллиардов лет можно изобрести нечто новое?
На какой то миг импульс Брок вышел из фазы, и связь пропала: Амису пришлось спешно корректировать свои силовые линии. Он отдался течению других мыслей, созерцая стремительное движение опушенных звездами галактик по бархату небытия, и, охватив сознанием межгалактическое пространство, ощущал биение силовых линий в бесконечном множестве проявлений энергожизни.
Амис воззвал:
– Брок, прошу, впитай мои мысли. Не экранируйся. Я хочу использовать Материю. Представляешь: Симфония Материи! Что толку биться над Энергией? Согласен, в Энергии нет ничего нового – откуда в ней новому быть?! Но разве это не указывает на то, что следует взяться за Материю?
– Материя! – В энергоколебаниях Брок возникли волны отвращения.
– Почему бы и нет? – возразил он. – Мы сами когда то были материей... Кажется, триллион лет тому назад! Так почему бы посредством Материи не создавать фигуры, или абстрактные формы, или... слушай, Брок... почему бы не воплотить в Материи – имитационно, конечно – нас самих, какими мы были когда то?
– Не помню я, как это было. И никто не помнит, – отвечала Брок.
– Я помню! – горячо возразил Амис. – Я думаю только об этом, ни о чем кроме, и уже начинаю припоминать. Брок, позволь, я тебе покажу. Если я прав, если так и было – скажи. Прошу тебя, скажи!
– Нет. Все это мерзко и глупо.
– Брок, прошу, позволь мне попробовать. Мы же старые друзья, с самого начала... мы же вместе стали излучать энергию... с того самого мгновения, как сделались теми, кто мы есть. Брок, пожалуйста!
– Хорошо. Только быстро.
Такого возбуждения в собственных силовых линиях Амис не ощущал уже... сколько? Если его попытка удастся, у него достанет сил использовать Материю перед ассамблеей энергосущностей, уже который век, которую эпоху столь безотрадно ждущих чего либо нового.
Материю разметало меж галактик, но Амис, отбирая все атомные крохи с каждого кубического светового года, собрал ее, сбил ком в пластичную массу и придал ему форму сужающегося книзу яйца овоида.
– Брок, неужели ты не помнишь? – осторожно спросил он. – Разве это ни на что не похоже?
Вихрь Брок судорожно вибрировал в фазе.
– Не заставляй меня вспоминать. Я не хочу.
– Это было головой. Ее называли: голова. Мне это помнится настолько отчетливо, что так и подмывает произнести. Я имею в виду звуками. – Амис подождал, потом попросил: – Взгляни.
У овоида в верхней части появилось: "ГОЛОВА".
– Что это? – У Брок, казалось, затеплился интерес.
– Слово, обозначающее голову. Символ звукового выражения слова. Брок, ну скажи, что ты вспомнила!
– Вот тут, посредине, кажется, что то было, – донеслись неуверенные мысли Брок.
Образовалась вертикальная выпуклость.
Амис воскликнул:
– Да! Нос – вот что это такое! – Появилась надпись: "НОС". – А это, с каждой стороны, глаза. – "ЛЕВЫЙ ГЛАЗ – ПРАВЫЙ ГЛАЗ".
Амис любовался своим творением, пульс его силовых линий обрел торжественность. Но можно ли с уверенностью сказать, что ему самому это нравится?
– Смотри, – называл он, дрожа от нетерпения, – подбородок, адамово яблоко, ключицы. Слова возвращаются ко мне. – И все слова обозначились на его создании.
– А у меня уже сотни миллиардов лет их и в мыслях не было, упрекнула Брок. – Зачем ты напомнил? Зачем?
На какой то миг Амис сбился:
– Что то еще. Органы слуха... нечто для приема звуковых волн. Уши! Но куда их притиснуть? Не помню, где они были?
От Брок уже исходило неистовство:
– Оставь это! Брось! И уши свои дурацкие, и все остальное! Не помню!
Амис, слегка озадаченный, спросил:
– Что плохого в том, чтобы помнить?
– Что?! Да разве тогда все это было таким вот грубым и холодным? Куда подевались упругость и теплота? Да разве такими были глаза, которые жили, источая нежность? А губы? Разве сравнить те, что ты сделал, и те, что дрожали, когда, мягкие, прижимались к моим? Силовые линии Брок бились и вибрировали.
Амис взмолился:
– Прости! Прости меня!
– Ты хочешь напомнить, что когда то я была женщиной и знала любовь, что глазам дано не только видеть и что не стало никого, кто дал бы мне испытать это, кто заставил бы мои глаза излить печаль сердца.
Резко, будто наотмашь, плеснула она материей на грубо слепленную голову и бросила:
– Пусть вот у этих – получится, пусть они – испытают, – и, сменив полярность, улетучилась.
Некоторое время Амис всматривался, вспоминая, что когда то и он был мужчиной. Но вот энергия его вихря надвое рассекла яйцевидную голову, и он помчался обратно сквозь галактики по энергоследу Брок, снова туда, к нескончаемому страшному суду бессмертия.
А глаза на рассеченной голове Материи так и остались блестеть влагой, которой брызнула Брок, изображая слезы. Голова из Материи творила то, что было уже недоступно энергосущностям: она лила слезы, оплакивая все человеческое, нежную красоту тел, от которых они некогда отреклись... Давно – триллион лет тому назад.
Путь марсиан
Стоя в дверях короткого коридора, соединявшего обе каюты космолета, Марио Эстебан Риос с раздражением наблюдал, как Тед Лонг старательно настраивает видеофон. На волосок по часовой стрелке, на волосок против, но изображение оставалось паршивым.
Риос знал, что лучше не будет. Они были слишком далеко от Земли и в невыгодном положении – за Солнцем. Но откуда же Лонгу знать это? Риос еще немного постоял в дверях – боком и нагнув голову, чтобы не упереться в притолоку. Затем вырвался в камбуз, словно пробка из бутылочного горлышка.
– Что это вас так заинтересовало? – спросил он.
– Хочу поймать Хильдера, – ответил Лонг.
Присев на уголок полки стола, Риос снял с верхней полки коническую жестянку с молоком и надавил на верхушку. Жестянка открылась, издав негромкий хлопок. Слегка взбалтывая молоко, он ждал, пока оно согреется.
– Зачем? – он запрокинул жестянку и с шумом отхлебнул.
– Хотел послушать.
– Лишняя трата энергии.
Лонг взглянул на него и нахмурился.
– Считается, что личными видеофонами можно пользоваться без ограничения.
– В разумных пределах, – возразил Риос.
Они обменялись вызывающими взглядами. Сильная, сухощавая фигура Риоса, его лицо с впалыми щеками сразу же наводили на мысль, что он один из марсианских мусорщиков – космонавтов, которые терпеливо прочесывали пространство между Землей и Марсом. Его голубые глаза резко выделялись на смуглом, прорезанном глубокими складками лице, а оно в свою очередь казалось темным пятном на фоне белого синтетического меха, которым был подбит поднятый капюшон его куртки из искусственной кожи.
Лонг выглядел бледнее и слабее. Он был чем то похож на наземника, хотя, конечно, ни один марсианин второго поколения не мог быть настоящим наземником, таким, как обитатели Земли. Его капюшон был откинут, открывая темно каштановые волосы.
– Что вы считаете разумными пределами? – сердито спросил Лонг.
Тонкие губы Риоса стали еще тоньше.
– Этот рейс вряд ли окупит даже наши расходы, и, если дальше все пойдет так же, любая трата энергии неразумна.
– Если мы теряем деньги, – сказал Лонг, – то не лучше ли вам вернуться на место? Ваша вахта.
Риос что то проворчал, потер заросший подбородок, потом встал и, неслышно ступая в тяжелых мягких сапогах, нехотя направился к двери. Он остановился, чтобы взглянуть на термостат, и в ярости обернулся.
– То то мне казалось, что здесь жарко. Где, по вашему, вы находитесь?
– Четыре с половиной градуса – не слишком много!
– Для вас – может быть. Только мы сейчас в космосе, а не в утепленной рудничной конторе.
Риос рывком перевел стрелку термостата вниз до отказа.
– Солнце достаточно греет.
– Но камбуз не на солнечной стороне.
– Прогреется!
Риос шагнул за дверь. Лонг поглядел ему вслед, потом снова повернулся к видеофону. Трогать термостат он не стал. Изображение оставалось неустойчивым, но что то рассмотреть было можно. Лонг откинул вделанное в стену сиденье. Подавшись вперед, он терпеливо ждал, пока диктор объявлял программу и занавес медленно расплывался. Но вот прожекторы выхватили из темноты знакомое бородатое лицо, оно росло и наконец заполнило весь экран.
– Друзья мои! Сограждане Земли...
Входя в рубку, Риос успел заметить вспышку радиосигнала. Ему показалось, что это импульс радара, и у него на мгновение похолодели руки. Но он тут же сообразил, что это иллюзия, порожденная нечистой совестью. Вообще говоря, во время вахты он не должен был выходить из рубки, хотя это делали все мусорщики. И все таки каждого преследовало кошмарное видение находки, подвернувшейся именно за те пять минут, которые он урвет на чашку кофе, уверенный, что космос чист. И бывали случаи, когда этот кошмар оказывался явью.
Риос включил многополосную развертку. Это требовало лишней энергии, но все таки лучше убедиться, чтобы не оставалось никаких сомнений.
Космос был чист, если не считать далеких отражений от соседних кораблей в цепи мусорщиков.
Риос включил радиосвязь, и экран заполнила русая голова длинноносого Ричарда Свенсона – второго пилота ближайшего корабля со стороны Марса.
– Привет, Марио, – сказал Свенсон.
– Здорово. Что нового?
Ответ раздался через секунду с небольшим: скорость электромагнитных волн не бесконечна.
– Ну и денек!
– Что нибудь неладно? – спросил Риос.
– Была находка.
– И прекрасно.
– Если бы я ее заарканил, – мрачно ответил Свенсон.
– Что случилось?
– Повернул не в ту сторону, черт подери!
Риос знал, что смеяться нельзя. Он спросил:
– Как же так?
– Я не виноват. Дело в том, что контейнер двигался не в плоскости эклиптики. Представляешь себе кретина пилота, который не смог даже правильно его сбросить? Откуда же мне было знать? Я установил расстояние до контейнера, а его путь просто прикинул, исходя из обычных траекторий. Как всякий нормальный человек. И пошел по самой выгодной кривой перехвата. Только минут через пять гляжу – дистанция увеличивается. Уж очень медленно возвращались импульсы. Тогда я измерил его угловые координаты, и оказалось, что догонять уже поздно.
– Кто нибудь его поймал?
– Нет. Он далеко от плоскости эклиптики и так там и останется. Меня беспокоит другое. В конце концов, это был всего навсего малый контейнер. Но как подумаю, сколько топлива я истратил, пока набирал скорость, а потом возвращался на место! Послушал бы ты Канута.
Канут был братом и компаньоном Ричарда Свенсона.
– Взбесился? – спросил Риос.
– Не то слово. Чуть меня не убил! Но ведь мы здесь пять месяцев, и тут уж каждое лыко в строку. Ты же знаешь.
– Знаю.
– А у тебя как, Марио?
Риос сделал вид, что сплюнул.
– Примерно столько за весь рейс. За последние две недели – два контейнера, и за каждым гонялись по шесть часов.
– Большие?
– Смеешься, что ли? Я бы мог дотащить их до Фобоса одной рукой. Хуже рейса у меня еще не было.
– Когда думаешь возвращаться?
– По мне – хоть завтра. Мы здесь всего два месяца, а я уже все время ругаюсь с Лонгом.
Длительность наступившей паузы нельзя было объяснить только запаздыванием радиоволн. Потом Свенсон сказал:
– Ну а как он? Лонг то есть.
Риос оглянулся. Из камбуза доносилось тихое бормотание и треск видеофона.
– Не могу понять. В первую же неделю после начала рейса он меня спрашивает: "Марио, почему вы стали мусорщиком?" Я только поглядел на него и говорю: "Чтобы зарабатывать на жизнь, а то почему же". Что за идиотский вопрос, хотел бы я знать? Почему человек становится мусорщиком? А он мне: "Не в том дело, Марио". Это он мне объяснять будет, представляешь! "Вы мусорщик, – говорит, – потому что таков Марсианский путь".
– А что он этим хотел сказать? – спросил Свенсон.
Риос пожал плечами.
– Не спрашивал. Вот и сейчас он сидит там и слушает на ультрамикроволнах передачу с Земли. Какого то наземника Хильдера.
– Хильдера? Он, кажется, политик, член Ассамблеи?
– Как будто. И Лонг все время занимается чем то таким. Взял с собой фунтов пятнадцать книг, и все про Землю. Балласт, и больше ничего.
– Ну что ж, он твой компаньон. Кстати, о компаньонах: я, пожалуй, займусь делом. Если прохлопаю еще одну находку, здесь произойдет убийство.
Свенсон исчез, и Риос, откинувшись в кресле, принялся следить за ровной зеленой линией импульсной развертки. На мгновение он включил многополосную развертку. Космос был по прежнему чист.
Ему стало чуть полегче. Хуже всего, когда тебе не везет, а все вокруг вылавливают контейнер за контейнером и на Фобос, на заводы по переплавке лома, отправляются контейнеры с любыми клеймами, кроме твоего. К тому же он отвел душу, и его раздражение против Лонга немного улеглось.
А вообще он зря связался с Лонгом. Никогда не надо связываться с новичками. Они думают, что тебе необходимы разговоры, особенно Лонг со своими вечными теориями про Марс и его великую роль в прогрессе человечества. Он так и говорил – все с прописной буквы: Прогресс Человечества, Марсианский Путь, Новая Горстка Творцов. А Риосу нужны не разговоры, а находки – два три контейнера, и ничего больше.
Впрочем, выбора у него, собственно говоря, не было. Лонг был хорошо известен на Марсе и неплохо зарабатывал. Он был приятелем комиссара Сэнкова и уже принимал участие в одном двух непродолжительных мусорных рейсах. Нельзя же взять и отказать человеку, не испытав его, как бы странно ни выглядело все дело. Зачем вдруг инженеру, имеющему приличную работу и хороший заработок, понадобилось болтаться в космосе?
Риос не задавал этого вопроса Лонгу. Компаньоны мусорщики вынуждены жить и работать бок о бок столь долгое время, что любопытство становится нежелательным, а иногда и небезопасным. Но Лонг говорил так много, что в конце концов сам на него ответил. "Я должен был выбраться сюда, Марио, сказал он. Будущее Марса не шахты, а космос".
Риос прикинул: а не отправиться ли ему в следующий рейс одному? Все утверждали, что это невозможно. Не говоря уже о находках, которые будут упущены, так как надо спать, надо, помимо наблюдения, выполнять и другие обязанности. Кроме того, всем известно, что, оставаясь в космосе в одиночестве, человек быстро впадает в тяжелую депрессию, а с компаньоном можно пробыть в рейсе шесть месяцев. Лучше бы, конечно, иметь полный экипаж, но на таком большом корабле мусорщику ни черта не заработать. На одном топливе прогоришь!
Впрочем, быть в космосе и вдвоем вовсе не сахар. Обычно приходится каждый раз менять компаньона. С одними можно оставаться в рейсе дольше, чем с другими. Взять хотя бы Ричарда и Канута Свенсонов. Они выходят вместе через пять или шесть рейсов – ведь все таки они братья. И даже у них каждый раз уже через неделю начинаются трения, и чем дальше, тем хуже... Ну, да ладно!
Космос был чист, и Риос почувствовал, что ему станет легче, если он вернется в камбуз, чтобы загладить свою раздражительность. В конце концов, он старый космический волк и умеет справляться с дурным настроением, которое навевает космос.
Он встал и сделал три шага, которые отделяли его от короткого, узкого коридора между каютами.
Риос вновь постоял в дверях. Лонг внимательно смотрел на мерцающий экран видеофона.
– Я включу отопление, – грубовато сказал Риос. – Ничего страшного, энергии у нас хватит.
– Как хотите, – кивнул Лонг.
Риос, поколебавшись, шагнул вперед. Космос чист – какой толк сидеть и смотреть на неподвижную зеленую полоску?
Он спросил:
– О чем говорит этот наземник?
– В основном об истории космических путешествий. Старые штучки, но хорошо подано. Он пустил в ход, что мог: цветные мультипликации, комбинированные фотоснимки, кадры из старых фильмов – ну, все.
Словно в подтверждение слов Лонга, бородатое лицо на экране сменилось изображением космического корабля в разрезе. Хильдер продолжал говорить за кадром, давая объяснения, которые иллюстрировались на схеме различными цветами. Он говорил, и по изображению бежали красные линии, – склады, двигатель с протонным микрореактором, кибернетические схемы...
Затем на экране вновь возник Хильдер.
– Но это лишь капсула корабля. Что же приводит ее в движение? Что поднимает ее с Земли?
Каждый знал, что приводит в движение космический корабль, но голос Хильдера зачаровывал, и слушателям уже казалось, будто сейчас они проникнут в тайну веков, приобщатся к высшему откровению. Даже Риос почувствовал легкое нетерпение, хотя большую часть жизни он провел в космических кораблях.
Хильдер продолжал:
– Ученые называют это по разному. Иногда законом действия и противодействия. Иногда третьим законом Ньютона. А иногда сохранением количества движения. Но нам не нужны никакие названия. Давайте просто обратимся к здравому смыслу. Когда мы плывем, мы отталкиваем воду назад, а сами продвигаемся вперед. Когда мы идем, мы отталкиваемся от земли и движемся вперед. Когда мы летим на гиролете, мы отталкиваем воздух назад и движемся вперед. Движение вперед возможно только за счет движения назад. Старое правило:"Нельзя получить что то взамен ничего". Теперь представьте себе, что космический корабль весом сто тысяч тонн поднимается с Земли. Чтобы это произошло, необходимо что то отбросить назад. Космолет непомерно тяжел, значит, надо отбросить назад огромное количество вещества, столь огромное, что и всего корабля не хватит, чтобы вместить его. Для этого необходимо устроить позади специальное хранилище.
Хильдер снова исчез, и на экран вернулось изображение космолета. Оно съежилось, а снизу к нему добавился усеченный конус. Внутри конуса проступили ярко желтые буквы: "Вещество, которое выбрасывается".
– Но теперь, – сказал Хильдер, – общий вес корабля намного увеличился. Следовательно, и движущая сила должна быть все больше и больше.
Изображение корабля стало еще меньше, к нему прибавился второй контейнер – больше первого, а потом еще один – колоссальных размеров. Собственно космолет – капсула – превратился в крохотное ярко красное пятнышко.
– Что за черт, да это просто детский лепет, – пробормотал Риос.
– Но не для тех, к кому он обращается, Марио, – ответил Лонг. – Земля не Марс. Миллиарды людей на ней, возможно, никогда не видели космолета и не знают даже самых элементарных вещей.
Хильдер продолжал:
– Когда самый большой контейнер опустеет, его отделяют от корабля. Он тоже выбрасывается.
Громадный контейнер на экране дрогнул и начал удаляться, постепенно уменьшаясь.
– Потом приходит очередь второго, и наконец, если рейс дальний, отделяется и последний.
Теперь космолет превратился в красную точку, позади которой, колыхаясь, исчезали в космосе три контейнера.
– Эти контейнеры, – сказал Хильдер, – не что иное, как сотни тысяч тонн вольфрама, магния, алюминия и стали. Для Земли они потеряны навсегда. Вокруг Марса, на трассах космических полетов, дежурят мусорщики. Они разыскивают пустые контейнеры, ловят их, клеймят и отправляют на Марс. Земля же не получает ни единого цента платы за их использование. Это спасенное имущество, и оно принадлежит кораблю, который его найдет.
– Мы рискуем деньгами, вложенными в это предприятие, – не выдержал Риос. – Если бы не мы, они не достались бы никому. Какой же тут ущерб для Земли?
– Понимаете, – сказал Лонг, – он же говорит о том, что Марс, Венера и Луна истощают Землю и это – лишь еще одна форма потерь.
– Но ведь они получают компенсацию. С каждым годом мы добываем все больше железной руды...
– ...большая часть которой вновь возвращается на Марс. Если верить цифрам Хильдера, то Земля вложила в Марс двести миллиардов долларов, а получила взамен железной руды миллиардов на пять. В Луну было вложено пятьсот миллиардов, а получено магния, титана и различных легких металлов немногим более чем на двадцать пять миллиардов долларов; в Венеру Земля вложила 50 миллиардов, не получив взамен ничего. А налогоплательщиков Земли интересует именно это: деньги, которые с них берет государство, пускаются на ветер.
Пока Лонг говорил, на экране замелькали мультипликационные кадры, изображавшие корабли мусорщиков на трассе к Марсу: маленькие, карикатурные корабли хищно выбрасывали во все стороны гибкие, цепкие руки, нащупывали пролетающие мимо пустые контейнеры, хватали их, ставили на них пылающее клеймо "Собственность Марса", а затем сбрасывали на Фобос.
Снова появился Хильдер.
– Они говорят нам, что со временем все вернут. Со временем! Как только станут на ноги! Мы не знаем, когда это произойдет. Через сто лет? Через тысячу? Через миллион? Со временем, говорят они! Ну что ж, поверим им на слово. В один прекрасный день они вернут весь наш металл, сами будут обеспечивать себя продовольствием, будут пользоваться своей собственной энергией, жить своей жизнью. Но есть нечто, чего им не вернуть никогда. Даже через сотню миллионов лет. Это вода! На Марсе жалкие капли воды, ибо он слишком мал. На Венере совсем нет воды, ибо там слишком жарко. Луна безводна, так как слишком мала и на ней слишком жарко. Поэтому Земля вынуждена поставлять обитателям космоса не только питьевую воду и воду для мытья, не только воду для промышленности и воду для гидропонных плантаций, которые они якобы создают, но и ту воду, которую они просто выбрасывают в пространство миллионами тонн.
Что заставляет космолет двигаться? Что он отбрасывает назад, чтобы мчаться вперед? Когда то это были газообразные продукты взрыва. Это обходилось очень дорого. Потом был изобретен протонный микрореактор источник дешевой энергии, который может превращать любую жидкость в газ, находящийся под огромным давлением. Какая жидкость всегда под рукой? Какая жидкость самая дешевая? Конечно, вода. Каждый корабль, покидая Землю, уносит с собой около миллиона тонн – не фунтов, а тонн! – воды для одной лишь единственной цели: чтобы он мог передвигаться в пространстве. Наши предки безрассудно и опрометчиво сожгли нефть Земли, уничтожили ее уголь. Мы презираем и осуждаем их за это, но, в конце концов, у них было одно оправдание: они считали, что, если возникнет необходимость, будут найдены заменители. И они оказались правы: у нас есть планктонные фермы и протонные микрореакторы. Но для воды нет заменителя! Нет! И никогда не будет. И когда наши потомки увидят пустыню, в которую мы превратили Землю, какое оправдание найдут они для нас? Когда начнутся засухи, когда они станут все чаще...
Лонг наклонился и выключил видеофон.
– Это мне не нравится, – сказал он. – Проклятый болван умышленно... В чем дело?
Риос вдруг вскочил.
– Я же должен следить за импульсами.
– Ну их к черту!
Лонг тоже встал, прошел вслед за Риосом по узкому коридору и остановился на пороге рубки.
– Если Хильдер добьется своего, если он сумеет сделать из этого животрепещущую проблему... Ого!
Он тоже его увидел. Импульс был первого класса и мчался за исходящим сигналом, как борзая за электрическим кроликом.
Риос, захлебываясь, бормотал:
– Космос был чист, говорю вам, был чист. Марса ради, Тед, не лезьте. Попробуйте поймать его визуально.
Риос действовал быстро и умело: за его плечами был опыт почти двадцатилетней работы мусорщиком. За две минуты он определил дистанцию. Потом, вспомнив неудачу Свенсона, измерил угол склонения и радиальную скорость.
Он крикнул Лонгу:
– Один и семьдесят шесть сотых радиана. Вы легко его отыщете.
Лонг, затаив дыхание, крутил верньер.
– Всего лишь полрадиана от Солнца. Будет освещен только край.
Он быстро и осторожно усилил увеличение, разыскивая ту единственную "звезду", которая будет менять свое положение, расти и приобретать форму, доказывая, что она вовсе не звезда.
– Включаю двигатель, – сказал Риос. – Больше ждать нельзя.
– Вот он, вот он!
Увеличения все еще не хватало, чтобы можно было точно судить о форме светящегося пятнышка, за которым следил Лонг, но оно ритмично мерцало, потому что при вращении контейнера солнечный свет падал то на большую, то на меньшую его часть.
– Держись!
Тонкие струи пара вырвались из выхлопных отверстий, оставляя длинные хвосты микрокристаллов льда, туманно сиявших в бледных лучах далекого Солнца. Расходясь, они тянулись за кораблем на сотню миль с лишком. Одна струя, другая, еще одна, и корабль мусорщиков сошел со своей орбиты и взял курс по касательной к пути контейнера.
– Летит, как комета в перигелии! – крикнул Риос. – Эти проклятые пилоты наземники нарочно так сбрасывают контейнеры. Хотел бы я...
В бессильной злости, ругаясь, он все разгонял и разгонял корабль, так что гидравлическая прокладка кресла осела под ним на целый фут, а Лонг с большим трудом удерживался за поручень.
– Полегче! – взмолился он.
Но Риос следил только за импульсами.
– Не нравится, так сидели бы себе на Марсе.
Струи пара продолжали глухо реветь.
Заработало радио. Лонг с трудом наклонился – воздух словно превратился в вязкую патоку – и включил экран. На них злобно уставился Свенсон.
– Куда это вы прете? – кричал он. – Через десять секунд вы будете в моем секторе.
– Гонюсь за контейнером, – ответил Риос.
– По моему сектору?
– Мы начали у себя. Тебе его не достать. Выключите радио, Тед.
Корабль с бешеным ревом несся в пространстве, но рев этот можно было услышать только внутри корпуса. Затем Риос выключил двигатели так резко, что Лонга швырнуло вперед. От внезапной тишины в ушах звенело еще больнее, чем от грохота, царившего секунду назад.
Оба прильнули к окулярам. Теперь уже отчетливо был виден усеченный конус. Кувыркаясь с медлительной важностью, он двигался среди звезд.
– Да, контейнер первого класса, – удовлетворенно отметил Риос. "Настоящий гигант, – подумал он. – С ним у нас уже очистится прибыль".
Лонг сказал:
– Локатор показывает еще один импульс. Должно быть, Свенсон погнался за нами.
Риос мельком взглянул на экран.
– Не догонит.
Контейнер все рос и рос, пока не заполнил все поле зрения.
Руки Риоса лежали на рычаге сброса гарпуна. Он подождал, дважды с микроскопической точностью выверил угол, вытравил трос на нужную длину. Потом нажал.
Мгновение все оставалось, как было. Затем к контейнеру пополз металлический трос, словно кобра, готовящаяся ужалить. Он коснулся контейнера, но не зацепился за него, иначе он тут же порвался бы, как паутинка. Контейнер вращался; момент его вращения достигал тысяч тонн, и трос должен был только создать мощное магнитное поле, которое затормаживало контейнер.
Вылетел еще один трос, еще и еще... Риос посылал их, нисколько не думая о расходе энергии.
– Этот от меня не уйдет, клянусь Марсом, не уйдет!
Он остановился, только когда между кораблем и контейнером протянулось десятка два стальных нитей. Энергия вращения контейнера при торможении превратилась в теплоту и до такой степени его раскалила, что излучение улавливали даже приборы космолета.
– Клеймо буду ставить я? – спросил Лонг.
– Ладно. Но только если хотите. Сейчас ведь моя вахта.
– Я с удовольствием.
Лонг влез в скафандр и направился в выходную камеру. Он еще помнил точно, сколько раз побывал в космосе в скафандре, – верный признак новичка. Это был пятый раз.
Ухватившись за трос и перебирая по нему руками, Лонг направился к контейнеру, чувствуя, как вибрирует трос под его металлическими перчатками. Он выжег на гладком металле контейнера их серийный номер. В пустоте космоса нечему было окислять сталь. Она просто плавилась и испарялась, а затем конденсировалась в нескольких футах от излучателя и серой матовой пленкой оседала на поверхность контейнера.
Лонг вернулся в космолет. Войдя внутрь, он снял шлем, который уже успел покрыться толстым слоем инея.
Первое, что услышал Лонг, был почти неузнаваемый от ярости голос Свенсона, доносившийся из репродуктора:
– ...прямо к комиссару. Черт побери, есть же у нас какие то правила!
Риос невозмутимо сидел в кресле.
– Послушай, ведь он был в моем секторе. Я поздно его заметил, и пришлось ловить в твоем. А ты, если бы погнался за ним, врезался бы в Марс. Только и всего... Вернулись, Лонг?
Он выключил радио. Сигнальная лампочка яростно мигала, но Риос не обращал на нее внимания.
– Он подаст жалобу комиссару? – спросил Лонг.
– И не подумает. Это он просто чтобы развеять скуку. Он прекрасно понимает, что контейнер наш. А как вам понравилась наша добыча, Тед?
– Очень недурна.
– Очень недурна? Да она великолепна! Держитесь! Сейчас я его раскручу.
Боковые сопла извергли струи пара, и корабль начал медленно вращаться вокруг контейнера, который последовал за ним. Через полчаса они представляли собой гигантское боло, крутящееся в пустоте. Лонг определил по "Эфемеридам" положение Деймоса. В точно рассчитанный момент тросы сняли магнитное поле, и контейнер по касательной вышел на траекторию, по которой примерно через сутки должен был достичь этого спутника Марса и попасть в уловители находящегося там склада.
Риос проводил его довольным взглядом. Потом повернулся к Лонгу.
– Удачный денек.
– А речь Хильдера? – спросил Лонг.
– Кого? Вы о чем? Ах, это то! Ну, если волноваться из за болтовни каждого проклятого наземника, никогда не уснешь. Забудьте о нем.
– По моему, об этом забывать не следует.
– Вот чудак! Да бросьте вы! Лучше поспите.
Тед Лонг, как всегда, упивался высотой и шириной главной улицы города.
Прошло уже два месяца с того дня, как комиссар наложил временный запрет на вылавливание контейнеров и отозвал все корабли мусорщиков из космоса, но бодрящее ощущение простора не покидало Лонга. Эту радость не могла омрачить даже мысль о том, что запрет был наложен в связи с намерением Земли провести в жизнь свое недавнее решение экономить воду, а для начала лимитировать ее расход на рейсах мусорщиков.
Крыша улицы была покрыта светящейся светло голубой краской, возможно, старомодная попытка имитировать земное небо. Тед точно не знал, так ли это. Витрины магазинов, прорезая стены улицы, освещали их.
Издалека, перекрывая шум транспорта и шаги прохожих, доносились взрывы – это пробивали в коре Марса новые туннели. Всю свою жизнь он слышал эти взрывы. Когда он родился, на месте этой улицы была еще нетронутая скальная порода. Город растет и будет расти и дальше, если ему не помешает Земля.
Лонг свернул в поперечную улицу, более узкую и не так ярко освещенную. Витрины магазинов сменились здесь жилыми домами, фасады которых были прочерчены рядами фонарей. Толпы покупателей и машины уступили место медленно прогуливающимся пешеходам и шумным ребятишкам, которые еще не вняли призывам матерей идти ужинать.
В последнюю минуту Лонг вспомнил о правилах приличия, остановился на углу, у водяной лавки, и протянул флягу:
– Налейте ка!
Толстый лавочник отвинтил колпачок и заглянул во флягу, затем слегка встряхнул ее – там булькнуло.
– Немного осталось, – весело сообщил он.
– Верно, – согласился Лонг.
Лавочник держал флягу под самым наконечником шланга, чтобы не пролить ни капли воды. Зажужжал счетчик. Лавочник завинтил колпачок.
Лонг расплатился и взял флягу. Теперь она приятно похлопывала его по бедру. В семейный дом не принято приходить без полной фляги. К приятелям, конечно, можно зайти и так, во всяком случае, этому не придается большого значения.
Он вошел в подъезд дома N 27, поднялся на несколько ступенек, приготовился нажать кнопку звонка и остановился.
Из за двери отчетливо доносились голоса.
Женщина говорила с раздражением:
– Приглашай, приглашай своих дружков мусорщиков! Большое тебе спасибо, что ты целых два месяца в году бываешь дома! На меня, конечно, и пары дней хватит! А потом опять твои мусорщики!
– Но я уже давно дома, – ответил мужской голос. – И потом у нас есть дело. Марса ради, перестань, Дора. Они вот вот придут.
Лонг решил подождать за дверью: может быть, они перейдут на более безобидную тему.
– И пусть их приходят! – отрезала Дора. – Пусть слушают. По мне, хоть бы навсегда запретили эти полеты. Слышишь?
– А на что мы будем жить? – раздраженно спросил мужчина. Ответь ка!
– И отвечу. Ты можешь прилично зарабатывать на самом Марсе, как и все другие. В этом доме только я одна – "мусорная вдова". Вот что я такое вдова! Да что там, хуже вдовы! Будь я вдовой, то по крайней мере могла бы еще раз выйти замуж. Что ты сказал?
– Да ничего я не говорил.
– О, я знаю, что ты сказал. А теперь послушай меня, Дик Свенсон...
– Да, я сказал! – крикнул Свенсон. – Сказал, что теперь то я знаю, почему мусорщики обычно не женятся.
– И тебе нечего было жениться! Мне надоело – все соседи жалеют меня, ухмыляются и спрашивают, когда ты вернешься. Другие могут быть горными инженерами, администраторами или, на худой конец, бурильщиками. Во всяком случае, у жен бурильщиков есть нормальная семья, и дети у них как дети, а не беспризорники. У Питера с таким же успехом могло и не быть отца.
– Мама, а что такое беспризорник? – послышался тонкий мальчишеский фальцет. Голос доносился издалека, по видимому, из другой комнаты.
– Питер! Занимайся уроками! – еще больше повысила голос Дора.
Свенсон тихо произнес:
– Нехорошо вести такие разговоры при ребенке. Что он обо мне подумает?
– Так оставайся дома, чтобы он думал так, как нужно.
Снова раздался голос Питера:
– Знаешь, мама, я, когда вырасту, стану мусорщиком.
Послышались быстрые шаги, на мгновение наступила тишина, а затем раздался пронзительный вопль:
– Мама, ой, мама! Отпусти ухо! Что я сделал? – и снова все затихло слышно было только обиженное сопение.
Лонг воспользовался паузой и энергично позвонил. Свенсон открыл дверь, приглаживая волосы обеими руками.
– Здравствуйте, Тед, – приглушенным голосом сказал он. Потом громко произнес: – Дора, пришел Тед. Тед, а где Марио?
– Должен скоро прийти, – ответил Лонг.
Из другой комнаты торопливо вышла Дора, маленькая смуглая женщина с приплюснутым носом. Ее чуть тронутые сединой волосы были зачесаны назад.
– Здравствуйте, Тед. Ужинали?
– Да, я сыт, благодарю вас. Но вы, пожалуйста, не обращайте на меня внимания.
– Нет нет. Мы давно уже кончили. Хотите кофе?
– Не откажусь, – Тед снял с пояса флягу и протянул ей.
– О, что вы, не нужно! У нас много воды.
– Прошу вас.
– Ну, что же...
Она ушла на кухню. Через качающуюся дверь Лонг мельком увидел посуду, стоявшую в "Секотерге" – "безводной мойке, которая всасывает и поглощает жир и грязь в одно мгновение. Одной унции воды хватает, чтобы дочиста отмыть восемь квадратных футов посуды. Покупайте "Секотерг"! "Секотерг" моет идеально. Не затратив лишней капли, так начистит вам посуду, что под силу только чуду!.."
Назойливая рекламная песенка зазвенела у него в голове, и, чтобы прогнать ее, он спросил:
– Как поживает Пит?
– Отлично. Перешел уже в четвертый класс. Ну, конечно, мне редко приходится его видеть. Так вот, когда я в последней раз вернулся из рейса, он посмотрел на меня и говорит...
Последовало продолжение, которое было вполне терпимо, насколько бывают терпимы рассказы заурядных родителей о выдающихся высказываниях их выдающихся детей.
Прожужжал звонок, вошел хмурый, весь красный Марио.
Свенсон быстро шагнул к нему.
– Послушай, только ни слова о ловле контейнеров. Дора никак не может забыть, как ты захватил первоклассный контейнер на моем участке, а сегодня она вообще не в настроении.
– Только мне и заботы, что говорить о контейнерах.
Риос сорвал с себя подбитую мехом куртку, швырнул ее на спинку кресла и сел.
Вошла Дора и деланно улыбнулась новому гостю.
– Привет, Марио. Будешь пить кофе?
– Угу, – ответил он, машинально потянувшись к своей фляге.
– Возьмите воды из моей фляги, Дора, – быстро проговорил Лонг. – Он мне потом отдаст.
– Угу, – повторил Риос.
– Что случилось, Марио? – спросил Лонг.
– Валяйте! Говорите, что вы же меня предупреждали, – мрачно буркнул Риос. – Год назад, после речи Хильдера. Ну, говорите, говорите!
Лонг с недоумением пожал плечами.
Риос продолжал:
– Установлен лимит. Об этом объявили четверть часа назад.
– Ну?
– Пятьдесят тысяч тонн воды на рейс.
– Что? – вспыхнул Свенсон. – Да с этим и с Марса не поднимешься!
– Так оно и есть. Это обдуманный удар. Сбору мусора пришел конец.
Дора принесла кофе и расставила чашки.
– Что это вы говорили? Конец сбору мусора? – она села с решительным видом, и Свенсон беспомощно взглянул на нее.
– По видимому, – сказал Лонг. – С этого дня вводится лимит в пятьдесят тысяч тонн, а это значит, что мы не сможем больше летать.
– Ну и что из этого? – Дора отхлебнула кофе и весело улыбнулась. Если хотите знать мое мнение, так это очень хорошо. Пора бы всем вам, мусорщикам, найти постоянную работу на Марсе. Я не шучу. Это не жизнь рыскать по космосу...
– Дора, прошу тебя, – сказал Свенсон.
Риос что то злобно буркнул. Дора подняла брови.
– Я просто высказываю свое мнение.
– Ваше полное право, – сказал Лонг. – Но я имею в виду другое. Пятьдесят тысяч тонн – это только начало. Мы знаем, что Земля – или по крайней мере партия Хильдера – хочет нажить себе политический капитал на кампании за экономию воды, так что наше дело плохо. Мы должны как то раздобыть воду, не то они совсем нас прикроют, верно?
– Ну да, – сказал Свенсон.
– Но весь вопрос в том – как? Правильно?
– Если дело только в воде, – неожиданно разразился Риос, – то есть лишь один выход, и вы его знаете. Если наземники решат не давать нам воды, мы ее возьмем. То, что когда то их сопливые трусы отцы и деды побоялись оставить свою тепленькую планету, еще не делает их хозяевами воды. Вода принадлежит всем людям, где бы они ни находились. Мы – люди, значит, вода и наша тоже. Мы имеем на нее право.
– А как вы предлагаете ее забрать? – спросил Лонг.
– Очень просто! У них на Земле целые океаны воды. Не могут же они поставить по сторожу на каждой квадратной миле! Мы можем в любое время, когда нам вздумается, сесть на ночной стороне планеты, заправить все контейнеры и улететь. Хотел бы я знать, как они нам помешают?
– Десятком способов, Марио. Как вы находите контейнеры в космосе на расстоянии до сотни тысяч миль? Тонкий металлический корпус, затерянный в бескрайнем пространстве? Как? С помощью радара. Неужели вы думаете, что на Земле нет радаров? Неужели вы думаете, если на Земле догадаются, что мы крадем воду, они там не сумеют установить сеть радаров и обнаруживать приближающиеся корабли еще в космосе?
Дора с возмущением перебила Лонга:
– Вот что я тебе скажу, Марио Риос. Мой муж никогда не будет участвовать в грабительских налетах, чтобы добывать воду для мусорных рейсов.
– Дело не только в мусорных рейсах, – сказал Марио. – Завтра они прижмут нас во всем остальном. Их нужно остановить теперь же.
– Да не нужна нам их вода, – сказала Дора. – Тут же не Луна и не Венера. Полярные шапки вполне обеспечивают нас водой. У нас даже в квартире есть водопровод. В этом квартале у всех есть.
– На личные потребности расходуется наименьшая часть воды, сказал Лонг. – Вода нужна для рудников. А как быть с гидропонными бассейнами?
– Это верно, – сказал Свенсон. – Как быть с гидропонными бассейнами, Дора? Им необходима вода, и пора бы нам выращивать для себя свежие овощи вместо этой конденсированной дряни, которую нам присылают с Земли.
– Только послушайте его, – презрительно бросила Дора. – Что ты понимаешь в свежих овощах? Ты же никогда их не пробовал.
– Нет, пробовал, и не раз! Помнишь, один раз я достал моркови?
– Ну и что в ней было особенного? На мой взгляд, хорошо поджаренная протопища куда лучше. И полезнее. Просто сейчас вошло в моду болтать о свежих овощах, потому что из за этой гидропоники повышают налоги. И вообще все обойдется.
– Не думаю, – сказал Лонг. – Во всяком случае не обойдется само собой. Хильдер, вероятно, будет следующим Координатором, и вот тогда дело может обернуться совсем скверно. Если они сократят еще и поставки продовольствия...
– Ну, ладно! – воскликнул Риос. – Что же нам делать? Я говорю – воду надо брать. Брать, и все тут!
– А я говорю, что нельзя, Марио. Неужели вы не понимаете, что это Земной путь, путь наземников? Вы цепляетесь за пуповину, которая связывает Марс с Землей. Неужели вы не можете порвать ее? Неужели не видите Марсианского пути?
– Нет, не вижу. Может быть, вы объясните?
– Да, объясню, если будете слушать. Что мы имеем в виду, когда говорим о Солнечной системе? Меркурий, Венеру, Землю, Луну, Марс, Фобос и Деймос. Семь небесных тел, и все. Но ведь это меньше одного процента Солнечной системы. И мы, марсиане, ближе всех к остальным девяноста девяти процентам. Там, по ту сторону Марса, дальше от Солнца, несметные запасы воды!
Все с недоумением уставились на него. Свенсон неуверенно спросил:
– Вы говорите о ледяных оболочках Юпитера и Сатурна?
– Не только о них, но, согласитесь, и это вода. Слой в тысячу миль толщиной – это немало воды.
– Но он ведь покрыт аммиаком или... или еще чем то, а? – спросил Свенсон. – И потом, мы не можем садиться на большие планеты.
– Знаю, – ответил Лонг. – Но я не их имел в виду. На больших планетах свет клином не сошелся. Есть же еще астероиды и спутники! Например, Веста – астероид диаметром двести миль и почти сплошной кусок льда. Одна из лун Сатурна – тоже. Что вы скажете на это?
– Разве вы не бывали в космосе, Тед? – спросил Риос.
– Вы же знаете, что был. Что вы имеете в виду?
– Да, знаю, но вы все еще говорите, как наземник. А вы подумали о расстояниях? В среднем астероиды не подходят к Марсу ближе чем на сто двадцать миллионов миль. Это вдвое больше, чем от Марса до Венеры, а вы знаете, что даже лайнеры почти никогда не совершают этого рейса в один прием. Обычно они делают остановку на Земле или на Луне. В конце то концов, сколько времени, по вашему, человек может находиться в космосе?
– Не знаю. А как по вашему?
– Вы и сами знаете. Нечего меня спрашивать. Шесть месяцев. Загляните в любой справочник. Пробудьте в космосе больше шести месяцев, и вам одна дорога – к психиатру. Так ведь, Дик?
Свенсон кивнул.
– И это только астероиды, – продолжал Риос. – От Марса же до Юпитера триста тридцать миллионов миль, а до Сатурна – семьсот миллионов. Кто сумеет преодолеть такие расстояния? Представьте себе, что вы летите с обычной скоростью или, для круглого счета, делаете даже двести тысяч миль в час. Это займет... погодите, надо еще учесть ускорение и торможение... это займет месяцев шесть семь до Юпитера и почти год до Сатурна. Конечно, теоретически можно разогнаться и до миллиона миль в час, но где вы возьмете для этого воду?
– Ух ты! – произнес тонкий голосок, обладатель которого с чумазым носом и округлившимися глазами стоял тут же. – Сатурн!
Дора резко обернулась.
– Питер, марш в свою комнату!
– Ну, ма ам!
– Не нукай на меня!
Она привстала, и Питер исчез.
– Послушай, Дора, – сказал Свенсон, – посиди ка с ним немного, а? Ему трудно не отвлекаться, когда мы все тут разговариваем.
Дора упрямо фыркнула и не сдвинулась с места.
– Я никуда не уйду, пока не узнаю, что задумал Тед Лонг. Скажу вам прямо: мне это не очень нравится.
– Ну, ладно, – сказал Свенсон, – оставим в покое Юпитер и Сатурн. Тед, конечно, на них и не рассчитывает. А Веста? Мы могли бы добраться туда за десять двенадцать недель, и столько же на обратный путь. Двести миль в диаметре – это четыре миллиона кубических миль льда!
– Ну и что? – сказал Риос. – А что мы будем делать на Весте? Добывать лед? Строить рудники? Послушайте, вы представляете, сколько времени это займет?
– Я имел в виду именно Сатурн, а не Весту, – возразил Лонг.
– Ему говорят, что до Сатурна семьсот миллионов миль, а он все свое!
– Ладно, – сказал Лонг, – скажите ка мне, Марио, откуда вы знаете, что в космосе можно оставаться не больше шести месяцев?
– Черт возьми, это всем известно!
– Только потому, что так записано в "Руководстве по космическим полетам". Этот предел был установлен земными учеными на основе опыта земных пилотов и космонавтов. Вы рассуждаете, как наземник, а не как марсианин.
– Марсианин может быть марсианином, но он остается человеком.
– Откуда такая слепота? Сколько раз вы сами бывали в рейсе больше шести месяцев и без всяких последствий?
– Это совсем не то, – сказал Риос.
– Потому что вы марсиане? Потому что вы профессиональные мусорщики?
– Нет. Потому что мы не в дальнем рейсе и знаем, что можем вернуться на Марс, как только захотим.
– Но вы этого не хотите. Об этом я и говорю. Земляне строят огромные космолеты с библиотеками микрофильмов, с экипажем из пятнадцати человек, не считая пассажиров. И все таки они могут находиться в полете максимум шесть месяцев. У марсианских мусорщиков корабли на две каюты и только один сменщик. Но мы можем выдержать в космосе больше шести месяцев.
– Вы, кажется, не прочь прожить в корабле год и полететь на Сатурн?заметила Дора.
– А почему бы и нет, Дора? – сказал Лонг. – Мы можем это сделать. Неужели вы не понимаете? Земляне не могут. Они живут в настоящем мире. У них открытое небо и свежая пища, у них сколько угодно воздуха и воды. И, попадая на корабль, они оказываются в чуждой и тягостной обстановке. Вот почему шесть месяцев для них предел. Но марсиане – дело другое. Мы всю жизнь живем словно на борту корабля! Ведь Марс – это большой корабль диаметром в четыре с половиной тысячи миль, а в нем – крохотное помещение, где живут пятьдесят тысяч человек. Мы здесь закупорены, как в корабле. Мы дышим привозным воздухом и пьем привозную воду, которую без конца очищаем и снова пьем... Мы едим то же самое, что едят на корабле. И когда мы оказываемся в космолете, то продолжаем привычную жизнь. Если понадобится, мы способны продержаться гораздо больше года.
– И Дик тоже? – спросила Дора.
– Мы все.
– Так вот, только не Дик. Вы, Тед Лонг, и этот Марио, который крадет чужие контейнеры, можете сколько угодно болтать о том, как вы год проторчите в космосе. Вы холостяки. А Дик женат. У него жена и сын, и этого с него хватит. Он может получить постоянную работу и здесь, на Марсе. Бог мой, а представьте себе, что вы прилетите на Сатурн и не найдете там никакой воды. Как тогда вы вернетесь? А если у вас и останется вода, так кончится продовольствие. Ничего нелепее я еще не слыхала.
– Погодите, – напряженно произнес Лонг. – Я все обдумал. Я говорил с комиссаром Сэнковом, он поможет. Но нам нужны корабли и люди. Мне их не подобрать. Меня никто и слушать не станет. Я новичок. Вас же знают и уважают. Вы ветераны. Если вы меня поддержите – можете сами не лететь, если вы просто поможете мне убедить остальных, найти добровольцев...
– Прежде всего, – ворчливо прервал его Риос, – вам придется объяснить еще кое что. Ну, ладно, прилетим мы на Сатурн, а где там вода?
– В этом то все дело, – ответил Лонг. – Для того и нужно лететь на Сатурн. Вода там просто летает в космосе и ждет, пока за ней явятся!
Когда Хэмиш Сэнков прибыл на Марс, марсиан по рождению не существовало. Теперь здесь насчитывалось двести с лишним младенцев марсиан третьего поколения, чьи деды родились на Марсе.
Сэнкову тогда не было и двадцати. Колония на Марсе представляла собой всего лишь кучку приземлившихся кораблей, связанных между собой герметизированными подземными туннелями. В течение многих лет на его глазах под поверхностью планеты разрастались здания, высовывая тупые носы в разреженную, негодную для дыхания атмосферу. На его глазах появлялись товарные пакгаузы, вмещавшие целые корабли вместе со всем грузом. На его глазах из ничего возникло грандиозное переплетение шахт, источившее кору Марса. А население Марса увеличилось с пятидесяти человек до пятидесяти тысяч.
Из за этих воспоминаний Сэнков чувствовал себя стариком. Из за этих и еще более давних воспоминаний, навеянных присутствием землянина. Гость всколыхнул в его памяти давно забытые отрывочные картины теплого, уютного мира, лелеющего человечество, как материнское лоно.
Землянин, казалось, только что покинул это лоно. Не очень высокий, не очень худой, скорее, пожалуй, полный. Темные волосы с аккуратно уложенной волной, аккуратные усики, тщательно вымытая кожа. На нем был модный костюм, такой свежий и аккуратный, каким только может быть костюм из пластика.
Одежда, которую носил Сэнков, была изготовлена здесь, на Марсе. Она была опрятна и удобна, но безнадежно старомодна. По его суровому лицу пролегла густая сеть морщин, волосы давно побелели, и, когда он говорил, его кадык подергивался.
Землянина звали Майрон Дигби, он был членом Генеральной Ассамблеи Земли. Сэнков был комиссаром Марса.
Сэнков сказал:
– Все это тяжелый удар для нас.
– Для большинства из нас тоже.
– Гм... Тогда я должен честно признаться, что ничего не понимаю. Конечно, я не претендую на то, чтобы разбираться в земных проблемах, хотя и родился на Земле. На Марсе жить нелегко, и вам следует это уяснить. Только для того, чтобы обеспечить нас пищей, водой и сырьем, на кораблях требуется много места. А для книг и кинохроники места почти не остается. Даже видеопрограммы доходят до нас только в месяц противостояния, но тогда здесь все слишком заняты, чтобы их смотреть. Я, как комиссар, получаю от агентства "Межпланетная пресса" еженедельную сводку, но обычно у меня не бывает времени, чтобы внимательно с ней ознакомиться. Можете назвать нас провинциалами – вы будете правы. Так что, когда случается нечто подобное, мы только беспомощно переглядываемся.
– Не хотите же вы сказать, – медленно произнес Дигби, – что вы здесь, на Марсе, ничего не слышали о кампании против расточительства, которую проводит Хильдер?
– Кое что слышал. Один молодой мусорщик, сын моего большого друга, который погиб в космосе, – Сэнков задумчиво потер рукой шею, – очень любит читать об истории Земли и тому подобное. Когда он бывает в рейсе, он ловит видеопередачи, и он слушал этого Хильдера. Насколько я могу понять, это была первая речь Хильдера о расточителях. Молодой человек пришел с этим ко мне. Я, естественно, не принял его рассказы всерьез. Впрочем, после этого я стал как то просматривать сводки новостей "Межпланетной прессы", но там почти ничего не говорилось о Хильдере, а то, что было, представляло его довольно таки нелепой фигурой.
– Да, комиссар, – сказал Дигби, – вначале все это было похоже на шутку.
Сэнков вытянул длинные ноги и заложил их одну за другую.
– Сдается мне, что и до сих пор это во многом остается шуткой. Какие доводы он приводит? Мы тратим воду? А поинтересовался ли он цифрами? У меня они все есть. Я велел их приготовить к прибытию вашей комиссии.
Океаны Земли содержат четыреста миллионов кубических миль воды, а каждая кубическая миля весит четыре с половиной миллиарда тонн. Это не так уж мало! Часть этой громады мы тратим на полеты. Разгон происходит в основном в пределах поля тяготения Земли, значит, выбрасываемая вода возвращается в океаны. Этого Хильдер не учитывает. Когда он говорит, что за полет расходуется миллион тонн воды, он лжет. Меньше ста тысяч тонн! Теперь допустим, что на год приходится пятьдесят тысяч полетов. Этого, конечно, не бывает – их и полутора тысяч не наберется. Но, допустим, пятьдесят тысяч. Ведь со временем число полетов, безусловно, увеличится. При пятидесяти тысячах полетов в год в космосе будет невозвратимо теряться одна кубическая миля воды. Это значит, что за миллион лет Земля потеряет четверть процента своих водных запасов!
Дигби развел руками.
– Комиссар, "Межпланетные сплавы" попробовали использовать подобные цифры в борьбе против Хильдера. Но разве можно сухой математикой победить мощное эмоциональное движение? Хильдер пустил в ход словечко "расточители". Понемногу он сделал из него символ гигантского заговора банды алчных, жестоких негодяев, грабящих Землю ради своей минутной выгоды. Хильдер обвинил правительство в том, что оно почти все состоит из подобных людей, Ассамблею – в том, что она им подчиняется, прессу – в том, что она им принадлежит. К сожалению, все это не кажется нелепостью среднему человеку. Он прекрасно знает, что могут сделать эгоисты с богатствами Земли. Он знает, например, что случилось с нефтью в Смутные времена, знает, как погубили плодородие почв. Когда наступает засуха, фермера не интересует, что на космические полеты расходуется лишь крохотная капелька по сравнению с общими водными запасами Земли. Хильдер назвал ему виновников, а в несчастье нет лучшего утешения, чем знать, кого винить. И ради каких то цифр он от этого утешения не откажется.
– Вот этого я и не понимаю, – сказал Сэнков. – Может быть, я просто не знаю, как живет Земля, но мне кажется, что, кроме напуганных засухой фермеров, там есть и другие люди. Насколько я понимаю из сводок новостей, сторонников Хильдера меньшинство. Почему же вся Земля идет за горсткой фермеров и сумасбродных подстрекателей?
– Потому, комиссар, что у людей есть обыкновение беспокоиться о своем личном благополучии, о своем личном будущем. Сталелитейные компании видят, что эпоха космических полетов требует все больше легких сплавов, в которые не входит железо. Профсоюзы горняков опасаются внеземной конкуренции. Каждый землянин, которому не удается получить алюминий для какой нибудь своей постройки, уверен, что алюминий идет на Марс. Я знаю одного профессора археологии, который выступает против "расточителей" только потому, что не может получить от правительства денег на свои раскопки. Он убежден, что все государственные фонды расходуются на ракетные исследования и космическую медицину, и это его возмущает.
– Все это показывает, – заметил Сэнков, – что земляне не очень то отличаются от нас, марсиан. Но как же Генеральная Ассамблея? Почему ей приходится идти на поводу у Хильдера?
Дигби кисло усмехнулся.
– Не так уж приятно объяснять тонкости политики. Хильдер внес законопроект об организации нашей комиссии для расследования расточительства в космических полетах. Пожалуй, не менее трех четвертей Генеральной Ассамблеи было против такого расследования, как вредного и ненужного бюрократического мероприятия, каковым оно и является. Но какой законодатель рискнет возражать против расследования случаев расточительства? Немедленно создалось бы впечатление, будто он сам чего то боится, что то скрывает. Будто он сам извлекает какую то выгоду из расточительства. Хильдер не стесняется выдвигать подобные обвинения, и, справедливы они или нет, они могут подействовать на избирателей во время следующих выборов. И законопроект прошел. Потом встал вопрос о назначении членов комиссии. Те, кто был против Хильдера, не захотели в нее войти, потому что это заставило бы их принимать компрометирующие решения. Держась в стороне, легче не попасть под огонь Хильдера. В результате я оказался единственным членом комиссии, открыто осуждающим Хильдера, и это может стоить мне мандата на следующих выборах.
– Надеюсь, до этого не дойдет, – сказал Сэнков. Оказывается, у Марса меньше друзей, чем мы думали. И нам не хотелось бы потерять одного из них. Но чего Хильдер вообще хочет?
– По моему, это очевидно, – сказал Дигби. – Он хочет занять пост Всемирного Координатора.
– По вашему, это ему удастся?
– Если ничто его не остановит, – да.
– И тогда он прекратит кампанию против расточительства?
– Не знаю. Возможно, он еще не думал, что будет делать потом, когда станет Координатором. Впрочем, если вас интересует мое мнение, он не сможет прекратить кампанию, сохранив при этом популярность. Движение это уже вышло из под его контроля.
Сэнков почесал шею.
– Ну, что ж! В этом случае я хочу попросить у вас совета. Что мы, жители Марса, можем сделать? Вы знаете Землю. Вы знаете ситуацию там. Мы не знаем. Скажите, что нам делать?
Дигби встал и подошел к окну. Он взглянул на низкие купола соседних зданий, на разделяющую их совершенно безжизненную равнину, усеянную красными скалами, на лиловое небо и съежившееся солнце. Не поворачивая головы, он спросил:
– А вам в самом деле нравится здесь, на Марсе?
Сэнков улыбнулся.
– Большинство из нас просто не знает ничего другого, и Земля, наверное, покажется нам после этого чем то странным и непривычным.
– Но неужели вы к ней не привыкнете? После Марса на Земле не может не понравиться. Неужели вашим людям не будет приятно свободно дышать свежим воздухом под открытым небом? Вы же когда то жили на Земле. Вы помните, какая она.
– Смутно. И все таки это трудно объяснить. Земля просто существует. Она приспособлена для людей, и люди к ней приспособлены. Они воспринимают Землю такой, какая она есть. На Марсе все иначе. Он не обжит, не приспособлен для людей. Его приходится переделывать. Здесь люди строят свой мир, а не получают его готовым. Марс пока еще не бог весть что, но мы строим, и, когда кончим, получится то, что нам нужно. Это по своему замечательное чувство – знать, что ты сам строишь мир. После этого на Земле будет, пожалуй, скучновато.
– Ну, не все же марсиане настолько философы, чтобы довольствоваться невыносимо тяжелой жизнью ради будущего, которого, может быть, никто из них не увидит, – возразил Дигби.
– Нет, не совсем так.
Сэнков закинул левую ногу на правое колено и, поглаживая лодыжку, продолжал:
– Я говорил, что марсиане очень похожи на землян. Они люди, а люди не так уж склонны к философии. И все таки жить в растущем мире – это что то да значит, даже если ты об этом не думаешь. Когда я только приехал на Марс, я переписывался с отцом. Он был бухгалтером и так им и остался. Когда он умер, Земля была почти такой же, как тогда, когда он родился. Он не видел никаких перемен. Один день был неотличим от другого, жить для него означало просто коротать время до самой смерти. На Марсе все иначе. Здесь каждый день приносит что то новое: город растет, расширяется система вентиляции, протягивают водопровод с полюсов. Сейчас мы собираемся организовать собственную ассоциацию кинохроники. Она будет называться "Марсианская пресса". Если вы не жили в таком месте, где все вокруг непрерывно растет и меняется, вы никогда не поймете, как это замечательно. Нет, Марс, конечно, суровая и скудная планета, и Земля куда уютнее, но все таки, мне кажется, если вы заберете наших ребят на Землю, они будут несчастны. Большинство, возможно, и не поймет почему, но они будут чувствовать себя потерянными, потерянными и ненужными. Боюсь, что многие так и не смогут к этому привыкнуть.
Дигби отвернулся от окна, и гладкая розовая кожа на его лбу собралась в хмурые морщины.
– В таком случае, комиссар, мне жаль вас. Всех вас.
– Почему?
– Потому что я не думаю, чтобы вы, марсиане, смогли что нибудь изменить. И вы, и жители Луны и Венеры. Это случится еще не сегодня; может быть, пройдет еще год два, может быть, даже пять. Но очень скоро всем придется вернуться на Землю, если только...
Седые брови Сэнкова почти закрыли глаза.
– Ну?
– Если только вы не найдете другого источника воды, кроме планеты Земля.
Сэнков покачал головой.
– Вряд ли нам это удастся, верно?
– Да, пожалуй.
– А другого выхода, по вашему, нет?
– Нет.
Дигби ушел. Сэнков долго сидел, глядя прямо перед собой, потом набрал местный видеофонный номер.
Через некоторое время перед ним появилось лицо Теда Лонга.
– Ты был прав, сынок, – сказал Сэнков. – Они бессильны. Даже те, кто на нашей стороне, не видят выхода. Как ты догадался?
– Комиссар, – ответил Лонг, – когда прочтешь все, что только можно, о Смутном времени, особенно о двадцатом веке, перестаешь удивляться самым неожиданным капризам политики.
– Возможно. Так или иначе, сынок, Дигби сочувствует нам, искренне сочувствует, но и только. Он говорит, что нам придется покинуть Марс или же найти воду где нибудь еще. Только он считает, что мы ее нигде найти не сможем.
– Но вы то знаете, что сможем, комиссар?
– Знаю, что могли бы, сынок. Это страшный риск.
– Если я соберу достаточно добровольцев, это уж наше дело.
– Ну, и как там у вас?
– Неплохо. Кое кто уже на моей стороне. Я уговорил, например, Марио Риоса, а вы знаете, что он из лучших.
– Вот именно – добровольцами будут наши лучшие люди. Очень мне не хочется разрешать вам это.
– Если мы вернемся, весь риск будет оправдан.
– Если! Словечко, над которым задумаешься.
– Но и дело, на которое мы идем, стоит того, чтобы о нем подумать.
– Хорошо. Я обещал, что, если Земля нам не поможет, я распоряжусь, чтобы водохранилища Фобоса дали вам столько воды, сколько понадобится. Желаю удачи!
В полумиллионе миль над Сатурном Марио Риос крепко спал, паря в пустоте. Понемногу пробуждаясь, он долго лежал в скафандре, считал звезды и мысленно соединял их линиями.
Сначала, в первые недели, полет почти ничем не отличался от обычного "мусорного" рейса, если бы не тоскливое сознание, что с каждой минутой еще тысячи миль ложатся между ними и всем человечеством.
Они полетели по крутой кривой, чтобы выйти из плоскости эклиптики, проходя Пояс астероидов. Это потребовало большого расхода воды и, возможно, не было так уж необходимо. Хотя десятки тысяч крохотных миров на фотоснимках в двумерной проекции кажутся густым скоплением насекомых, в действительности они настолько редко разбросаны по квадрильонам кубических миль пространства, охватываемых их общей орбитой, что столкновение с одним из них могло быть результатом только нелепейшего случая. Но они все таки обошли Пояс. Кто то подсчитал вероятность встречи с частицей вещества, достаточно большой, чтобы столкновение с ней могло стать опасным. Полученная величина оказалась столь ничтожной, что кому нибудь неизбежно должна была прийти в голову мысль о парении в космосе.
Медленно тянулись долгие дни – их было слишком много. Космос был чист, в рубке мог дежурить один человек. И эта мысль родилась как то сама собой.
Первый храбрец решился выйти из корабля минут на пятнадцать. Второй провел в космосе полчаса. Со временем, еще до того, как они окончательно миновали астероиды, свободный от вахты член экипажа постоянно висел в космосе на конце троса.
Это было очень просто. Кабель – один из предназначаемых для работ в конце полета – сперва магнитно закрепляется на скафандре. Потом вы выбираетесь через камеру на корпус корабля и прикрепляете другой конец там. Некоторое время вас удерживают на металлической обшивке корабля электромагниты башмаков. Потом вы выключаете их и делаете еле заметное мускульное усилие.
Медленно медленно вы отрываетесь от корабля, и еще медленнее большая масса корабля уходит от вас на пропорционально меньшее расстояние вниз. И вы повисаете в невесомости в густой черноте, испещренной светлыми точками. Когда корабль отодвинулся на достаточное расстояние, вы чуть сжимаете кабель рукой в перчатке. Без рывка – иначе вы поплывете назад к кораблю, а корабль – к вам. При правильной же хватке трение вас остановит. Так как скорость вашего движения равна скорости движения корабля, корабль кажется неподвижным, будто нарисованным на невиданном фоне, а кабель между вами свивается кольцами, которые ничто не заставляет расправиться.
Вы видите только половину корабля, ту сторону, которая освещена Солнцем, далеким, но все еще слишком ярким, чтобы смотреть на него без надежной защиты поляризованного фильтра гермошлема. Теневая сторона корабля невидима – черное на черном.
Космос смыкается вокруг вас, и это похоже на сон. В скафандре тепло, воздух автоматически очищается, в специальных контейнерах хранится пища и вода, и вы посасываете их, почти не поворачивая головы. Но всего лучше восхитительное, блаженное чувство невесомости.
Никогда еще вы не чувствовали себя так хорошо. Дни уже не кажутся чрезмерно длинными, они проходят слишком быстро, их слишком мало.
Орбиту Юпитера они пересекли примерно в 30 градусах от его положения в тот момент. На протяжении многих месяцев он был для них самым ярким небесным телом, если не считать сияющей белой горошины, в которую превратилось Солнце. Когда они были ближе всего к нему, кое кто даже уверял, что видит не точку, а крохотный шарик, выщербленный с одного бока ночной тенью. Потом, месяц за месяцем, Юпитер бледнел, а новая светлая точка росла и росла, пока не стала ярче его. Это был Сатурн – вначале сверкающая точка, затем сияющее овальное пятно.
("Почему овальное?" – спросил кто то, и через некоторое время ему ответили: "Кольца, конечно". Ну конечно же – кольца!)
До самого конца полета каждый парил в космосе все свободное время, не спуская глаз с Сатурна.
("Эй, ты, обормот, валяй назад! Твоя вахта!" – "Чья вахта? У меня еще пятнадцать минут по часам". – "Ты перевел стрелки назад. И потом, я тебе вчера одолжил двадцать минут". – "Ты и своей бабушке двух минут не одолжил бы". – "Возвращайся, черт возьми, я все равно выхожу!" – "Ладно, иду. Сколько шуму из за какой то паршивой минуты!" Но все это не всерьез – в космосе серьезной ссоры не получалось. Слишком уж хорошо было. )
Сатурн все рос, пока наконец не сравнялся с Солнцем, а потом не превзошел его. Кольца, расположенные почти под прямым углом к траектории полета, величественно охватывали планету, которая заслоняла лишь небольшую их часть. День ото дня кольца раскидывались все шире, одновременно сужаясь, по мере того как уменьшался угол их наклона. В небе, словно мерцающие светлячки, уже виднелись самые большие луны Сатурна. Марио Риос был рад, что проснулся и теперь снова видит все это.
Сатурн закрывал полнеба – весь в оранжевых полосах, с расплывчатой границей ночной тени, отрезавшей его правую четверть. Два маленьких круглых пятнышка на его яркой поверхности были тенями двух лун. Слева и сзади (Риос оглянулся через левое плечо, и, когда он это сделал, его тело слегка сдвинулось вправо, сохраняя угловое количество движения) белым алмазом сверкало Солнце.
Больше всего Риосу нравилось разглядывать кольца. Слева они выходили из за Сатурна плотной, яркой тройной полосой оранжевого света. Справа они уходили в ночную тень и от этого казались ближе и шире. Ближе к нему они расширялись, как сверкающий раструб горна, становились все более туманными и расплывчатыми, пока наконец не заполняли все небо, теряясь в нем.
Там, где находились корабли мусорщиков, внутри внешнего кольца, у самого его наружного края, кольца, казалось, распадались и выглядели тем, чем они были на самом деле, феноменальным скоплением твердых обломков, а не сплошными, плотными полосами света.
Милях в двадцати под Риосом, или, вернее, там, куда были направлены его ноги, находился один из таких обломков. Он казался большим пятном неправильной формы, нарушившим симметрию космоса. Три четверти его были освещены, а остальное обрезано, как ножом, ночной тенью. Поодаль виднелись другие обломки, сверкавшие, точно звездная пыль. Чем дальше, тем слабее казался их свет, а они сами как будто сближались, пока вновь не сливались в кольцо.
Обломки эти были неподвижны, но так казалось лишь потому, что корабли двигались по той же орбите, что и внешний край колец.
Накануне Риос вместе с двумя десятками своих товарищей работал на ближайшем обломке, придавая ему нужную форму. Завтра он снова будет работать там.
Сегодня... Сегодня он парит в космосе.
– Марио? – вопросительно прозвучало в его наушниках.
Риос на мгновение рассердился. К черту, сейчас ему хочется побыть одному!
– Слушаю, – буркнул он.
– Я так и думал, что это твой корабль. Как дела?
– Прекрасно. Это ты, Тед?
– Да, – ответил Лонг.
– Что нибудь случилось на обломке?
– Ничего. Просто парю.
– Это ты то?
– И меня иногда тянет. Красиво, правда?
– Хорошо, – согласился Риос.
– Знаешь, в земных книгах...
– В книгах наземников, ты хочешь сказать?
Риос зевнул и обнаружил, что ему не удалось произнести слово "наземник" с должным презрением.
– ...мне приходилось читать, как люди лежат на траве, продолжал Лонг. – Знаешь, на такой зеленой штуке, вроде тонких, длинных полосок бумаги, которой покрыта там вся почва. Они лежат и глядят вверх, в голубое небо с облаками. Ты когда нибудь видел это в фильмах?
– Конечно. Только мне не понравилось. Того гляди замерзнешь.
– На самом деле там вовсе не холодно. В конце концов, Земля совсем близко к Солнцу, и говорят, у нее достаточно плотная атмосфера, чтобы удерживать тепло. Признаться, мне бы тоже не хотелось оказаться под открытым небом в одной одежде. Но, по моему, им это нравится.
– Все наземники – сумасшедшие!
– Знаешь, там еще говорится о деревьях – таких больших бурых стеблях, и о ветре – движении воздуха.
– Ты хочешь сказать – о сквозняках? Этим тоже пусть наслаждаются сами.
– Неважно. Они пишут об этом так красиво, с любовью. Но я часто задумывался: на что же это похоже, на самом то деле? Могу я это когда нибудь испытать или это доступно только землянам? Мне все казалось, что я упускаю что то очень важное. Теперь я знаю, на что это должно быть похоже. Вот на это – глубокий покой в центре Вселенной, напоенной красотой!
– Им бы это не понравилось, – сказал Риос. – Наземникам, я хочу сказать. Они так привыкли к своему паршивому крохотному миру, что им просто не понять, до чего же хорошо парить в космосе, глядя на Сатурн.
Он сделал легкое движение и начал медленно, спокойно покачиваться.
Лонг сказал:
– Да, я тоже так думаю. Они рабы своей планеты. Даже если они прилетают на Марс, только дети их освобождаются от этого. Когда нибудь будут вмещать тысячи людей и смогут десятилетиями, может быть, даже столетиями существовать как замкнутые системы. Человечество расселится по всей Галактике. Но людям придется всю жизнь проводить на борту кораблей, пока они не найдут новых способов межзвездного полета. И, значит, марсиане, а не привязанные к своей планете земляне, колонизируют Вселенную. Это неизбежно. Так должно быть. Это – Путь марсиан.
Но Риос не ответил. Он снова задремал, мягко покачиваясь, в полумиллионе миль над Сатурном.
Работа на обломке оказалась оборотной стороной медали. О блаженном покое и уединении свободного парения в пространстве приходилось забыть. Правда, осталась невесомость, но в новых условиях она была уже не райским блаженством, а настоящей пыткой. Попробуйте поработать хотя бы обычным стационарным тепловым излучателем. Его можно было легко поднять: несмотря на то что он был шести футов в высоту и столько же в ширину и сделан почти целиком из металла, здесь он весил считанные граммы. Но инерция его ничуть не уменьшилась, поэтому стоило толкнуть его слишком резко, и он спокойно продолжал двигаться, увлекая вас за собой. Тогда приходилось включать искусственное поле тяготения скафандра и плюхаться вниз.
Керальский неосторожно увеличил искусственное поле и вместе с излучателем опустился слишком резко. Ему перебило лодыжку – это был первый несчастный случай в экспедиции.
Риос ругался яростно и почти беспрерывно. Его все время тянуло вытереть пот со лба рукой. Раза два он не выдержал, и в результате металлическая перчатка ударялась о силиконовый шлем с грохотом, отдававшимся в скафандре, но не приносившим ощутимой пользы. Осушители внутри скафандра работали на полную мощность и, конечно, собирали влагу, регенерировали ее с помощью ионообмена, а затем, восстановив нужное содержание соли, сливали в специальное хранилище.
– Черт побери, Дик, жди, пока я не скажу, слышишь? – рявкнул Риос.
В его наушниках прогремел голос Свенсона:
– И долго мне тут сидеть?
– Пока не скажу, – огрызнулся Риос.
Он увеличил поле искусственного тяготения и немного приподнял излучатель. Потом снял тяготение, предварительно убедившись, что излучатель все равно останется на месте в течение нескольких минут, даже если его не держать. Отодвинув ногой кабель, который уходил за близкий горизонт к невидимому отсюда источнику энергии, он включил излучатель.
Вещество, из которого состоял обломок, закипело под тепловым лучом и стало исчезать. Края огромной выемки – тоже его работа, расплавляясь, становились все более округлыми.
– Ну, давай! – крикнул Риос.
Свенсон находился в корабле, висевшем почти над головой Риоса.
– Все в порядке? – спросил Свенсон.
– Говорю тебе, давай!
Из переднего сопла корабля вылетела слабая струйка пара. Космолет медленно опускался на обломок. Еще одна струйка – и боковой дрейф корабля прекратился. Теперь он опускался точно. Третья – из кормы, и его движение стало едва заметным.
Риос напряженно следил за ним.
– Давай, давай! Получается, говорю тебе.
Корма вошла в выемку, почти целиком заполнив отверстие. Раздутое брюхо корабля все больше приближалось к его краям. Раздался скрежет, космолет содрогнулся и замер.
Теперь проклятиями разразился Свенсон.
– Не входит!
Риос в ярости отшвырнул излучатель и взмыл вверх. Излучатель поднял целую тучу белой кристаллической пыли, как и Риос, когда он вернулся, включив поле тяготения.
– Ты криво вошел, тупоголовый наземник!
– Нет, я вошел точно, неумытая ты деревенщина!
Обращенные назад боковые сопла корабля выпустили струи пара, и Риос отскочил в сторону.
Космолет, царапая бока, выбрался из ямы и взлетел вверх на полмили, прежде чем заработавшие передние сопла успели его остановить.
– Еще раз, и мы сорвем с обшивки полдюжины плит. Сделай наконец все как надо!
– Я то сделаю! Не беспокойся. Только ты входи правильно.
Риос подпрыгнул и поднялся метров на триста, чтобы взглянуть на выемку сверху. Борозды, оставленные на ее стенках кораблем, отсюда были видны ясно. Больше всего их было в одном месте, примерно на половине ее глубины. Сейчас он это уберет.
Стены начали оплавляться под пламенем излучателя.
Через полчаса корабль аккуратно вошел в выемку, и Свенсон, облачившись в скафандр, присоединился к Риосу.
– Если хочешь, я займусь вмораживанием, а ты иди на корабль и сбрось скафандр, – сказал он.
– Ничего, – ответил Риос, – я лучше посижу здесь и посмотрю на Сатурн.
Он уселся на край выемки. Между ним и корпусом космолета было футов шесть свободного пространства. В других местах зазор составлял примерно два фута, а кое где – всего несколько дюймов. Лучше вручную и не сделаешь. Теперь оставалось осторожно расплавить лед, чтобы вода замерзла между стенками выемки и корпусом космолета.
Сатурн заметно для глаза перемещался по небу, огромной глыбой медленно уползая за горизонт.
– Сколько еще кораблей осталось встроить? – спросил Риос.
– В последний раз говорили – одиннадцать. У нас готово, значит, только десять. Из тех, что уже встали на место, семь вморожены, а два или три демонтированы.
– Дело идет на лад.
– Работы много, – возразил Свенсон. – Ведь еще надо поставить главные двигатели с другой стороны. А кабели, а силовая проводка? Иногда я начинаю сомневаться, удастся ли нам это. Когда мы летели сюда, меня это как то мало беспокоило. Но вот сейчас я сидел в рубке и твердил: "Не выйдет. Мы так и просидим здесь и умрем с голоду под этим Сатурном". Я чувствую, что просто...
Он так и не объяснил, что именно чувствует. Просто сидел и молчал.
– Уж очень много ты стал задумываться, – заметил Риос.
– Тебе что, – ответил Свенсон. – А я вот все думаю о Пите и о Доре.
– Зачем? Она ведь позволила тебе лететь, верно? Комиссар потолковал с ней о патриотизме и как ты станешь героем и будешь обеспечен на всю жизнь, когда вернешься, и она сказала, что ты можешь лететь. Ты ведь не сбежал тайком, как Адамс.
– Адамс – другое дело. Его жену следовало бы пристрелить, как только она родилась. И могут же некоторые женщины испортить человеку жизнь, а? Она не хотела, чтобы он летел, но, наверное, будет только рада, если он не вернется, а ей назначат за него пенсию.
– Ну, так чего же ты хнычешь? Дора ведь ждет твоего возвращения?
Свенсон вздохнул.
– Я всегда вел себя с ней как свинья.
– Ты, по моему, отдавал ей все жалованье. Я бы не сделал этого ни для одной женщины. Сколько заслужила, столько и получай, и ни цента больше.
– Дело не в деньгах. Я тут начал задумываться. Женщине нужен друг. А малышу нужен отец. И что я тут делаю?
– Делаешь все, чтобы поскорее добраться до дому.
– Эх, ничего ты не понимаешь!
Тед Лонг бродил по неровной поверхности обломка, и в его душе царил такой же ледяной холод, как и вокруг него. Там, на Марсе, все казалось абсолютно логичным, но то был Марс. Мысленно он рассчитал все так тщательно, так безукоризненно последовательно. Он и сейчас еще точно помнил ход своих рассуждений.
Для приведения в движение тонны веса корабля совсем не обязательно требовалась именно тонна воды. Тут не масса равнялась массе, а произведение массы на скорость – произведению массы на скорость. Другими словами, все равно, выбросить ли тонну воды со скоростью мили в секунду или сто фунтов воды со скоростью двадцать миль в секунду, – корабль получал одну и ту же конечную скорость.
Это значило, что сопла становились все уже, а температура пара выше. Но тут появились трудности. Чем уже сопла, тем больше энергии теряется на трение и завихрения. Чем выше температура пара, тем более жароупорным должно быть сопло и тем короче его жизнь. Предел в этом направлении был быстро достигнут.
Затем, поскольку каждое данное количество воды, если пар выбрасывался через узкие сопла, могло привести в движение значительно более тяжелую массу, выгоднее было увеличить это количество. Но с увеличением объема контейнеров увеличивалась и капсула корабля, даже относительно. Поэтому лайнеры становились все вместительнее и тяжелее. Но чем больше контейнер, тем тяжелее его конструкции, тем труднее сварка, сложнее его постройка. В этом направлении предел также был уже достигнут.
И тогда он, как ему казалось, нащупал ошибочную предпосылку: почему то считалось обязательным, что горючее должно находиться внутри корабля, что миллионы тонн воды нужно заключать в металл.
Зачем? Ведь вода – это не обязательно вода. Это может быть лед, а ледяной глыбе можно придать любую форму. Во льду можно проплавлять отверстия. В него можно вставить капсулу и двигатель. А тросы могут жестко удерживать вместе капсулу и двигатели в тисках магнитного силового поля.
Поверхность, по которой шел Лонг, ритмично вибрировала. Он находился неподалеку от места работы, где десяток кораблей вгрызался в лед, и обломок содрогался от непрерывных ударов.
Добывать лед не потребовалось – он плавал кусками нужного размера в кольцах Сатурна. Вернее сказать, сами кольца представляли собой вращающиеся вокруг Сатурна глыбы почти чистого льда. Так говорила спектроскопия, так оказалось на самом деле. Сейчас Лонг стоял на одной из этих глыб длиной в две мили с лишком и толщиной почти с милю. Примерно полмиллиарда тонн воды, все в одном куске – и он стоит на нем.
И теперь Лонг лицом к лицу столкнулся с действительностью. Он никогда не говорил товарищам, сколько именно времени, по его мнению, потребуется им, чтобы превратить обломок в космический корабль, но про себя считал, что дня два, не больше. Однако прошла уже неделя, а он даже не осмеливался прикинуть, сколько еще остается. Теперь он даже не был уверен, что их план вообще осуществим. Смогут ли они с достаточной точностью управлять двигателями с помощью кабелей, переброшенных через две мили ледяной поверхности, когда им придется преодолевать мощное притяжение Сатурна? Питьевой воды оставалось мало, но, правда, они всегда могли растопить лед. Однако и продовольствие подходило к концу.
Лонг остановился и внимательно всмотрелся в небо. Действительно ли этот обломок увеличивается? Надо бы измерить расстояние до него. Но сейчас у него просто не хватило духа добавить к остальным неприятностям еще и эту. Мысли его вернулись к более насущным проблемам.
Хорошо хоть, что настроение у всех просто великолепное. По видимому, его спутники очень рады, что достигли орбиты Сатурна. Ведь они первые люди, забравшиеся так далеко, первые, кто прошел Пояс астероидов, первые, кто невооруженным глазом смог увидеть Юпитер как шар, первые, кто увидел Сатурн – вот таким!
Ему и в голову не приходило, что пятьдесят практичных, прошедших огонь и воду мусорщиков окажутся способными испытывать подобные чувства. Но это было так. И они были горды собой.
Он продолжал идти, из за отодвигавшегося горизонта выросли две фигуры около полузарытого космолета.
Лонг бодро окликнул их:
– Эй, ребята!
– Это ты, Тед? – ответил Риос.
– Он самый. А кто с тобой? Дик?
– Ну, да. Иди ка, присядь. Мы как раз готовимся вымораживать корабль и только и думаем, как затянуть время.
– Только не я! – немедленно возразил Свенсон. – Когда мы вылетаем, Тед?
– Как только закончим. Это не ответ, верно?
– Но другого то ответа и нет, – уныло согласился Свенсон.
Лонг поглядел вверх, на светлое пятно неправильной формы.
Риос проследил его взгляд.
– В чем дело?
Лонг промолчал. Небо было черное, и обломки кольца казались на его фоне оранжевой пылью. Сатурн больше чем на три четверти ушел за горизонт, а с ним и кольца. В полумиле от них из за ледяного края их обломка в небо стремительно выскочил корабль, блеснул в оранжевом свете Сатурна и тут же исчез. Лед под их ногами задрожал.
– Что нибудь неладно с Призраком? – спросил Риос.
Так они называли ближайший к ним обломок. Он был совсем близко, если учесть, что они находились у внешнего края колец, где обломки были разбросаны относительно редко. От Призрака их отделяло миль двадцать. Это была четко рисовавшаяся в небе зубчатая глыба.
– Вы ничего не замечаете?
Риос пожал плечами.
– Не вижу ничего особенного. Все нормально.
– Вам не кажется, что он увеличивается?
– С чего бы это?
– А все таки?
Риос и Свенсон внимательно посмотрели на Призрак.
– Пожалуй, он действительно стал больше, – сказал Свенсон.
– Ты нам это внушил, – возразил Риос. – Ведь если он становится больше, значит он приближается сюда.
– Но ведь это же вполне возможно.
– Нет, потому что у этих обломков стабильные орбиты.
– Были, когда мы только прилетели сюда, – сказал Лонг. – Вот, чувствуете?
Лед под ними снова задрожал.
– Мы долбим наш обломок уже неделю. Сначала на него сели двадцать пять кораблей, что сразу изменило его скорость. Чуть чуть, разумеется, но изменило. Потом мы расплавляли лед, наши корабли садились и взлетали – и все это к тому же на одном конце обломка. За неделю мы вполне могли немного изменить его орбиту. Два обломка, наш и Призрак, возможно, начали сближаться.
– Ну, пока еще ему хватит места проскочить мимо, – сказал Риос, посмотрев вверх. – К тому же раз мы не можем даже сказать с уверенностью, что он увеличивается, то какая же у него может быть скорость? Относительно нас, конечно.
– Ему и не надо иметь большую скорость. Его масса не меньше нашей, и, как бы слабо мы ни столкнулись, он собьет нас с орбиты, возможно в сторону Сатурна. А это нам вовсе ни к чему. К тому же у льда очень низкая прочность на разрыв и оба обломка могут разлететься в пыль.
Свенсон встал.
– Черт возьми, уж если я могу точно определить, как движется сброшенный контейнер в тысяче миль от меня, то и подавно могу узнать, как ведет себя эта гора всего в двадцати милях отсюда.
Он направился к кораблю. Лонг его не остановил.
– Нервничает парень, – заметил Риос.
Призрак поднялся к зениту, прошел над ними и начал заходить. Через двадцать минут горизонт напротив того места, где исчез Сатурн, загорелся оранжевым заревом – там всходил Призрак.
Риос окликнул по радио:
– Эй, Дик, ты еще жив?
– Проверяю, – донесся глухой ответ.
– Движется? – спросил Лонг.
– Да.
– К нам?
Наступило молчание. Потом раздался испуганный голос Свенсона:
– Прямо в лоб, Тед. Орбиты пересекутся через три дня.
– Да ты рехнулся! – крикнул Риос.
– Проверял четыре раза, – сказал Свенсон.
"Что же теперь делать?" – растерянно подумал Лонг.
Часть команды мучилась с кабелями. Их необходимо было проложить идеально точно, чтобы магнитное поле достигло максимальной мощности. В космосе и даже в воздухе это не имело бы значения. Кабели сами расположились бы как надо, как только по ним пошел бы ток. Здесь было иначе. По поверхности обломка прокладывались канавки, в которые предстояло уложить кабель. Если бы при этом была допущена ошибка всего в несколько минут от расчетного направления, возникло бы скручивающее усилие, приложенное ко всему обломку, что привело бы к неизбежной потере драгоценной энергии. Тогда пришлось бы заново прокладывать канавки, переносить кабели и снова вмораживать их.
Усталые люди занимались этой однообразной работой, когда вдруг услышали:
– Все на монтаж двигателей!
Не следует забывать, что мусорщики отнюдь не принадлежат к людям, которым по вкусу дисциплина. Приказ был встречен громким ворчанием и руганью: ведь предстояло демонтировать оставшиеся двигатели, перенести их на другой конец обломка, впаять в лед в нужных местах и протянуть по поверхности тросы и кабели.
Так что прошли почти сутки, прежде чем кто то, глянув на небо, произнес: "Ух ты!" – и еще одно словечко, не подходящее для печати.
Его сосед посмотрел туда же и ахнул:
– Будь я проклят!
Вслед за ними в небо уставились и все остальные. Такого поразительного зрелища им еще не приходилось видеть!
– Взгляните ка на Призрак!
Он разрастался по всему небу, как гнойная язва. Все с удивлением обнаружили, что он стал вдвое больше прежнего, и не могли понять, каким образом никто не заметил этого раньше.
Работа была брошена. Все столпились вокруг Теда Лонга.
Он сказал:
– Улететь мы не можем. У нас нет горючего, чтобы вернуться на Марс, и нет снаряжения, чтобы захватить другой обломок. Значит, нам придется остаться тут. Призрак приближается к нам, так как взрывные работы изменили нашу орбиту. Мы можем вновь изменить орбиту, продолжая взрывы. Но тут взрывать больше нельзя – это опасно для корабля, который мы строим. Давайте попробуем с другой стороны.
Они взялись за дело с бешеной энергией. Их пыл подогревался каждые полчаса, когда Призрак вырастал на горизонте, все более огромный и грозный.
Лонг отнюдь не был уверен, что у них что нибудь выйдет. Даже если реактивные двигатели не откажут при дистанционном управлении, даже если наладится подача воды, – а для этого резервуар необходимо было встроить прямо в ледяные недра обломка, установить там излучатели, которые испаряли бы движущуюся жидкость, направляя ее в камеры истечения, – все равно не было никакой уверенности, что обломок, не скрепленный магнитными тросами, не рассыплется под воздействием разрушительных напряжений огромной силы.
– Готово! – услышал Лонг по радио.
– Готово! – повторил Лонг и включил контакт.
Он почувствовал, как все вокруг заколебалось. Россыпь звезд на экране, настроенном на дальний конец обломка, задрожала, и вдали возник пенный хвост стремительно несущихся ледяных кристаллов.
– Работают! – послышался крик.
Выключить двигатели Лонг не осмеливался.
Целых шесть часов они извергали кипящие струи, обращая в пар и выбрасывая в пространство лед, в который были встроены.
Призрак приблизился настолько, что все бросили работу, как завороженные глядя на гору, занявшую все небо, – более эффектную, чем даже сам Сатурн. Каждая выбоина и трещина на поверхности Призрака была видна совершенно четко. Но, когда он пересек орбиту их обломка, то уже успел проскочить на полмили вперед.
Лонг сгорбился в кресле и прикрыл глаза рукой. Он не ел уже двое суток. Впрочем, сейчас он мог бы и поесть. Все остальные обломки кольца были так далеко, что не могли доставить им новых неприятностей, даже если бы какой нибудь из них и начал к ним приближаться.
А снаружи Свенсон говорил:
– Все время, пока я следил, как эта проклятая скала наваливается на нас, я твердил про себя: "Этого не случится. Мы этого не допустим".
– Черт побери, – сказал Риос. – Мы все понервничали. Ты видел Джима Дэвиса? Он прямо позеленел. Да и мне было не по себе.
– Дело не в том. Смерть... это само собой. Но я все время вспоминал знаю, что это смешно, но ничего не могу поделать, все время вспоминал, как Дора сказала, что, если я наконец допрыгаюсь и погибну, она мне это припомнит. Глупо – в такую минуту, а?
– Послушай, – сказал Риос, – ты хотел жениться, и ты женился. Ну, так не ищи у меня сочувствия.
Слитая в единое целое флотилия возвращалась, преодолевая необозримо громадное пространство, отделявшее Сатурн от Марса. Каждый день она покрывала расстояние, на которое по пути сюда требовалось девять дней. Лонг объявил аврал. Синхронизация работы двигателей двадцати пяти кораблей, встроенных в кусок льда из колец Сатурна и лишенных возможности двигаться и маневрировать самостоятельно, была невероятно трудной задачей.
И в первый же день полета начались беспорядочные рывки, которые чуть не вытрясли из них душу. Впрочем, стремительное возрастание скорости положило конец этой тряске. К концу второго дня они перевалили за отметку 100 000 миль в час, но стрелка продолжала упорно двигаться, достигла отметки "1 000 000" и преодолела ее.
Корабль Лонга служил носом ледяного сооружения, и только с него было возможно вести наблюдение во всех направлениях. Лонг ловил себя на том, что напряженно наблюдает за космосом, почему то ожидая, что звезды вот вот начнут скользить назад и замелькают по бокам их составного корабля – так колоссальна была их скорость.
Но этого, конечно, не случилось. Звезды оставались пригвожденными к черному занавесу космоса, недвижно взирая на людей с таких расстояний, которые сводили на нет любую скорость, какой только мог добиться человек.
Через несколько дней начались жалобы. Дело было не только в том, что команда лишилась возможности парить в космосе. Всех измучила сила тяжести, намного превышавшая обычное искусственное поле тяготения кораблей, – это был результат свирепого ускорения, которому они подверглись. Лонг, неумолимой силой прижатый к гидравлической прокладке кресла, и сам чувствовал смертельную усталость.
Пришлось каждые три часа выключать на час двигатели, и Лонга это сердило.
Ведь с того дня, когда он в последний раз видел в иллюминаторе своего (тогда еще самостоятельного) корабля медленно исчезающий Марс, прошло уже больше года.
Что случилось за это время? Существует ли еще колония?
Тревожась все больше и больше, Лонг ежедневно, используя объединенную энергию всех кораблей, посылал к Марсу радиосигналы. Ответа не было. Да он его и не ждал. Марс и Сатурн сейчас находились по разные стороны от Солнца, и помехи были слишком велики: оставалось ждать того дня, когда корабли поднимутся над эклиптикой достаточно высоко.
За внешним краем Пояса астероидов они достигли максимальной скорости. Короткие струи из одного бокового двигателя, потом из другого повернули огромный корабль кормой вперед. Вновь мощно взревел составной задний двигатель, но теперь он уже тормозил их движение. Они прошли в ста миллионах миль от Солнца и по кривой направились к Марсу.
В неделе пути от Марса впервые были услышаны ответные сигналы отрывочные, еле слышные и неразборчивые. Но они доносились с Марса! Земля и Венера находились в другом направлении, так что сомневаться не приходилось.
Лонг немного успокоился. Во всяком случае, на Марсе все еще есть люди.
В двух днях пути от Марса сигналы стали сильными и отчетливыми. Их вызывал Сэнков.
Сэнков сказал:
– Здравствуй, сынок. У нас сейчас три часа утра. Никакого уважения к старику – вытащили меня прямо из постели.
– Мне очень жаль, сэр...
– И зря! Я сам так велел. Я боюсь спрашивать, сынок. Есть раненые? Может быть, кто нибудь погиб?
– Погибших нет, сэр. Ни единого.
– А... а как с водой? Что нибудь осталось?
Лонг, пытаясь придать голосу оттенок безразличия, ответил:
– Хватит.
– В таком случае возвращайтесь домой как можно скорее. Разумеется, без лишнего риска.
– Значит, дело плохо?
– Да так себе. Когда вы достигнете Марса?
– Через два дня. Столько вы продержитесь?
– Продержусь.
Сорок часов спустя Марс вырос в ярко оранжевый шар, заполнивший все иллюминаторы, и ледяной корабль вышел на последнюю спираль перед посадкой. "Спокойно, – твердил про себя Лонг, – спокойно!" Даже разреженная атмосфера Марса могла стать для них крайне опасной, если бы они вошли в нее на слишком большой скорости.
Сначала под ними пронеслась одна белая полярная шапка, затем другая, поменьше, летнего полушария, снова большая, опять меньшая – промежутки все увеличивались.
Планета приближалась. Вскоре уже стали отчетливо видны отдельные черты ландшафта.
– Приготовиться к посадке! – скомандовал Лонг.
Сэнков старался сохранить невозмутимый вид, что было нелегко: все таки экспедиция едва не опоздала. Впрочем, теперь все устроилось наилучшим образом.
Всего несколько дней назад он не был даже уверен, что они живы. Казалось вероятным, даже почти неизбежным, что где то в непроторенных пространствах между Марсом и Сатурном носятся их замерзшие трупы – новые небесные тела, которые когда то были живыми существами.
Последние месяцы он всячески торговался с комиссией по мелочам. Им нужна была его подпись для соблюдения законности. Однако Сэнков понимал, что, откажи он им наотрез, и они будут действовать односторонне, махнув рукой на формальности. Победа Хильдера на выборах казалась несомненной, и его сторонники могли даже пойти на риск вызвать сочувствие к Марсу. Поэтому Сэнков всячески затягивал переговоры, давая комиссии основание полагать, что он вот вот капитулирует.
Но после разговора с Лонгом Сэнков тут же согласился на все условия.
В тот же день, несколько часов спустя, перед ним уже лежали документы, и он, поглядывая на журналистов, обратился к комиссии с последним заявлением. Он говорил:
– Общий импорт воды с Земли составляет двадцать миллионов тонн в год. Он сокращается, по мере того как мы совершенствуем собственную водопроводную систему. Если я подпишу, дав тем самым согласие на эмбарго, наша промышленность будет парализована, исчезнет всякая возможность дальнейшего ее развития. Не может быть, чтобы это входило в намерения Земли. Не так ли?
Он посмотрел на членов комиссии, но их взгляд не смягчился. Дигби давно вывели из комиссии, а все остальные не симпатизировали Марсу.
Председатель комиссии раздраженно заметил:
– Вы все это уже говорили.
– Знаю, но раз я готов подписать, то хочу, чтобы все было ясно. Так, значит, Земля твердо решила покончить с нами?
– Конечно, нет. Земля заинтересована лишь в сохранении своих невозобновимых водных ресурсов, только и всего.
– На Земле полтора квинтильона тонн воды.
– Мы не можем поделиться своей водой, – отрезал председатель комиссии.
И Сэнков подписал.
Именно такие заключительные слова и были ему нужны. Земля имеет полтора квинтильона тонн воды и не может ею поделиться.
И вот сейчас, полтора года спустя, члены комиссии и журналисты ждали в куполе космопорта. За толстыми выгнутыми стенками виднелась голая, пустынная территория марсианского космодрома.
Председатель комиссии спросил с досадой:
– Долго ли еще ждать? И позвольте наконец узнать, чего мы ждем?
– Кое кто из наших ребят побывал в космосе, – ответил Сэнков, – за астероидами.
Председатель комиссии снял очки и протер их белоснежным платком.
– И они возвращаются?
– Да.
Председатель пожал плечами и, повернувшись к репортерам, выразительно поднял брови.
У другого окна в соседнем помещении тесной кучкой стояли женщины и дети. Сэнков повернулся и взглянул на них. Он предпочел бы быть вместе с ними, разделять их волнение и ожидание. Как и они, он ждал больше года. Как и они, он снова и снова думал, что те, кого они ждали, погибли.
– Видите? – сказал Сэнков, указывая в окно.
– Эге! – воскликнул какой то журналист. – Да это корабль.
Из соседней комнаты донеслись возбужденные крики.
Это был еще не корабль, а яркая точка, светившаяся сквозь зыбкое белое облачко. Облачко росло. Оно простерлось по небу двойной полосой, нижние концы которой расходились в стороны и загибались вверх. Облачко приблизилось, и яркая точка на его верхнем конце превратилась в подобие цилиндра. Поверхность цилиндра была неровной и скалистой, а там, где на нее падал солнечный свет, она отбрасывала ослепительные блики.
Цилиндр снижался с тяжеловесной медлительностью космолета. Он повис на мгновение, покоясь на многотонной отдаче отбрасываемых струй пара, как усталый человек в кресле.
В куполе воцарилась тишина. Женщины и дети в одной комнате, члены комиссии и журналисты в другой, окаменев, не веря своим глазам, смотрели вверх. Посадочные ноги цилиндра под нижними соплами коснулись поверхности, погрузились в зыбучую гальку, и корабль застыл неподвижно. Рев двигателей смолк.
В куполе по прежнему стояла тишина.
С огромного корабля спускались люди – им предстояло карабкаться вниз мили две в ботинках с шипами и с ледорубами в руках. На фоне слепящей поверхности они казались муравьями.
– Что это? – сорвавшимся голосом спросил один из журналистов.
– Это, – спокойно ответил Сэнков, – глыба вещества, которая вращалась вокруг Сатурна в составе его колец. Наши ребята снабдили ее капсулой и двигателями и доставили на Марс. Видите ли, кольца Сатурна состоят из огромных глыб чистого льда.
И в мертвой тишине он продолжал:
– Эта глыба, похожая на корабль, – всего лишь гора твердой воды. Если бы она стояла вот так на Земле, она растаяла бы, а может быть, распалась бы под действием собственной тяжести. На Марсе холоднее, а сила тяжести меньше, поэтому тут ей это не грозит. Разумеется, когда мы как следует наладим дело, мы заведем водные станции и на лунах Сатурна и Юпитера, и на астероидах. Мы будем собирать такие кусочки в кольцах Сатурна и отправлять на эти станции. Наши мусорщики это хорошо умеют. У нас будет столько воды, сколько понадобится. Объем глыбы, которую вы видите, чуть меньше кубической мили – примерно столько же Земля послала бы нам за двести лет. Ребята истратили довольно много воды, возвращаясь с Сатурна. По их словам, на весь путь понадобилось пять недель и они израсходовали около ста миллионов тонн воды. Но в этой горе даже щербинки не видно. Вы записываете?
Он повернулся к репортерам. О да, они записывали!
– И вот еще что. Земля опасается, что ее водные запасы истощаются. Она располагает всего навсего какими нибудь полутора квинтильонами тонн воды. Она не может уделить нам из них ни одной тонны. Так запишите, что мы, жители Марса, опасаемся за судьбу Земли и не хотим, чтобы с ее обитателями случилась беда. Запишите, что мы будем продавать воду Земле по миллиону тонн за умеренную плату. Запишите, что через десять лет мы рассчитываем продавать воду кубическими милями. Запишите, что Земля может не волноваться: Марс продаст Земле столько воды, сколько ей понадобится.
Председатель комиссии уже ничего не слышал. Он чувствовал, как на него обрушивается будущее. Как в тумане, он видел, что репортеры усмехаются, продолжая бешено строчить.
Усмехаются!
Он знал, что на Земле эта усмешка превратится в громовой хохот, едва там узнают, как Марс побил антирасточителей их же собственным оружием. Он слышал, как разражаются хохотом целые континенты, когда до них доходит известие об этом позорном фиаско. И еще он видел пропасть – глубокую и черную, как космос, пропасть, куда навсегда проваливаются все политические надежды Джона Хильдера и любого из оставшихся на Земле противников космических полетов, включая, конечно, и его самого.
В соседней комнате плакала от радости Дора, а Питер, успевший подрасти дюйма на два, прыгал и кричал:
– Папа! Папа!
Ричард Свенсон только что ступил на землю и зашагал к куполу. Его лицо было хорошо видно сквозь прозрачный силикон гермошлема.
– Ты когда нибудь видел, чтобы человек выглядел таким счастливым? спросил Тед Лонг. – Может, в этой семейной жизни и на самом деле что то есть?
– Брось! Просто ты слишком долго был в космосе, – ответил Риос.
Выборы
Из всей семьи только одна десятилетняя Линда, казалось, была рада, что наконец наступило утро. Норман Маллер слышал ее беготню сквозь дурман тяжелой дремы. (Ему наконец удалось заснуть час назад, но это был не столько сон, сколько мучительное забытье.)
Девочка вбежала в спальню и принялась его расталкивать.
– Папа, папочка, проснись! Ну, проснись же!
Он с трудом удержался от стона.
– Оставь меня в покое, Линда.
– Папочка, ты бы посмотрел, сколько кругом полицейских! И полицейских машин понаехало!
Норман Маллер понял, что сопротивляться бесполезно, и, тупо мигая, приподнялся на локте. Занимался день. За окном едва брезжил серый и унылый рассвет, и так же серо и уныло было у Маллера на душе. Он слышал, как Сара, его жена, возится в кухне, готовя завтрак. Его тесть Мэтью яростно полоскал горло в ванной. Конечно, агент Хэндли уже дожидается его.
Ведь наступил знаменательный день.
День Выборов!
Поначалу этот год был таким же, как и все предыдущие. Может быть, чуть чуть похуже, так как предстояли выборы президента, но, во всяком случае, не хуже любого другого года, на который приходились выборы президента.
Политические деятели разглагольствовали о сувер р ренных избирателях и мощном электр р ронном мозге, который им служит. Газеты оценивали положение с помощью промышленных вычислительных машин (у «Нью Йорк таймс» и «Сент Луис пост диспатч» имелись собственные машины) и не скупились на туманные намеки относительно исхода выборов. Комментаторы и обозреватели состязались в определении штата и графства, давая самые противоречивые оценки.
Впервые Маллер почувствовал, что этот год все таки не будет таким же, как все предыдущие, вечером четвертого октября (ровно за месяц до выборов), когда его жена Сара Маллер сказала:
– Кэнтуэлл Джонсон говорит, что штатом на этот раз будет Индиана. Я от него четвертого это слышу. Только подумать, на этот раз наш штат!
Из за газеты выглянуло мясистое лицо Мэтью Хортенвейлера. Посмотрев на дочь с кислой миной, он проворчал:
– Этим типам платят за вранье. Нечего их слушать.
– Но ведь уже четверо называют Индиану, папа, – кротко ответила Сара.
– Индиана – действительно ключевой штат, Мэтью, – также кротко вставил Норман, – из за закона Хоукинса Смита и скандала в Индианаполисе. Значит…
Мэтью грозно нахмурился и проскрипел:
– Никто пока еще не называл Блумингтон или графство Монро, верно?
– Да ведь… – начал Маллер.
Линда, чье острое личико поворачивалось от одного собеседника к другому, спросила тоненьким голоском:
– В этом году ты будешь выбирать, папочка?
Норман ласково улыбнулся.
– Вряд ли, детка.
Но все таки это был год президентских выборов и октябрь, когда страсти разгораются все сильнее, а Сара вела тихую жизнь, пробуждающую мечтательность.
– Но ведь это было бы замечательно!
– Если бы я голосовал?
Норман Маллер носил светлые усики; когда то их элегантность покорила сердце Сары, но теперь, тронутые сединой, они лишь подчеркивали заурядность его лица. Лоб изрезали морщины, порожденные неуверенностью, да и, вообще говоря, его душе старательного приказчика была совершенно чужда мысль, что он рожден великим или волей обстоятельств еще может достигнуть величия. У него была жена, работа и дочка, и, кроме редких минут радостного возбуждения или глубокого уныния, он был склонен считать, что его жизнь сложилась вполне удачно.
Поэтому его смутила и даже встревожила идея, которой загорелась Сара.
– Милая моя, – сказал он, – у нас в стране живет двести миллионов человек. При таких шансах стоит ли тратить время на пустые выдумки?
– Послушай, Норман, двести миллионов здесь ни при чем, и ты это прекрасно знаешь, – ответила Сара. – Во первых, речь идет только о людях от двадцати до шестидесяти лет, к тому же это всегда мужчины, и, значит, остается уже около пятидесяти миллионов против одного. А в случае если это и в самом деле будет Индиана…
– В таком случае останется приблизительно миллион с четвертью против одного. Вряд ли бы ты обрадовалась, если бы я начал играть на скачках при таких шансах, а? Давайте ка лучше ужинать.
Из за газеты донеслось ворчанье Мэтью:
– Дурацкие выдумки…
Линда задала свой вопрос еще раз:
– В этом году ты будешь выбирать, папочка?
Норман отрицательно покачал головой, и все пошли в столовую.
К двадцатому октября волнение Сары достигло предела. За кофе она объявила, что мисс Шульц – а ее двоюродная сестра служит секретарем у одного члена Ассамблеи – сказала, что «Индиана – дело верное».
– Она говорит, президент Виллерс даже собирается выступить в Индианаполисе с речью.
Норман Маллер, у которого в магазине выдался нелегкий день, только поднял брови в ответ на эту новость.
– Если Виллерс будет выступать в Индиане, значит, он думает, что Мультивак выберет Аризону. У этого болвана Виллерса духу не хватит сунуться куда нибудь поближе, – высказался Мэтью Хортенвейлер, хронически недовольный Вашингтоном.
Сара, обычно предпочитавшая, когда это не походило на прямую грубость, пропускать замечания отца мимо ушей, сказала, продолжая развивать свою мысль:
– Не понимаю, почему нельзя сразу объявить штат, потом графство и так далее. И все, кого это не касается, были бы спокойны.
– Сделай они так, – заметил Норман, – и политики налетят туда как воронье. А едва объявили бы город, как там уже на каждом углу торчало бы по конгрессмену, а то и по два.
Мэтью сощурился и в сердцах провел рукой по жидким седым волосам.
– Да они и так настоящее воронье. Вот послушайте…
Сара поспешила вмешаться:
– Право же, папа…
Но Мэтью продолжал свою триаду, не обратив на дочь ни малейшего внимания:
– Я ведь помню, как устанавливали Мультивак. Он положит конец борьбе партий, говорили тогда. Предвыборные кампании больше не будут пожирать деньги избирателей. Ни одно ухмыляющееся ничтожество не пролезет больше в конгресс или в Белый дом, так как с политическим давлением и рекламной шумихой будет покончено. А что получилось? Шумихи еще больше, только действуют вслепую. Посылают людей в Индиану из за закона Хоукинса Смита, а других – в Калифорнию, на случай если положение с Джо Хэммером окажется более важным. А я говорю – долой всю эту чепуху! Назад к доброму старому…
Линда неожиданно перебила его:
– Разве ты не хочешь, дедушка, чтобы папа голосовал в этом году?
Мэтью сердито поглядел на внучку.
– Не в этом дело. – Он снова повернулся к Норману и Саре. – Было время, когда я голосовал. Входил прямо в кабину, брался за рычаг и голосовал. Ничего особенного. Я просто говорил: этот кандидат мне по душе, и я голосую за него. Вот как нужно!
Линда спросила с восторгом:
– Ты голосовал, дедушка? Ты и вправду голосовал?
Сара поспешила прекратить этот диалог, из которого легко могла родиться нелепая сплетня:
– Ты не поняла, Линда. Дедушка вовсе не хочет сказать, будто он голосовал, как сейчас. Когда дедушка был маленький, все голосовали, и твой дедушка тоже, только это было не настоящее голосование.
Мэтью взревел:
– Вовсе я тогда был не маленький! Мне уже исполнилось двадцать два года, и я голосовал за Лэнгли, и голосовал по настоящему. Может, мой голос не очень то много значил, но был не хуже всех прочих. Да, всех прочих. И никакие Мультиваки не…
Тут вмешался Норман:
– Хорошо, хорошо, Линда, пора спать. И перестань расспрашивать о голосовании. Вырастешь, сама все поймешь.
Он поцеловал ее нежно, по по всем правилам антисептики, и девочка неохотно ушла, после того как мать пригрозила ей наказанием и позволила смотреть вечернюю видеопрограмму до четверти десятого с условием, что она умоется быстро и хорошо.
– Дедушка, – позвала Линда.
Она стояла, упрямо опустив голову и заложив руки за спину, и ждала, пока газета не опустилась и из за нее не показались косматые брови и глаза в сетке тонких морщин. Была пятница, тридцать первое октября.
– Ну?
Линда подошла поближе и оперлась локтями о колено деда, так что он вынужден был отложить газету.
– Дедушка, ты правда голосовал? – спросила она.
– Ты ведь слышала, как я это сказал, так? Или, по твоему, я вру? – последовал ответ.
– Н нет, но мама говорит, тогда все голосовали.
– Правильно.
– А как же это? Как же могли голосовать все?
Мэтью мрачно посмотрел на внучку, потом поднял ее, посадил к себе на колени и даже заговорил несколько тише, чем обычно:
– Понимаешь, Линда, раньше все голосовали, и это кончилось только лет сорок назад. Скажем, хотели мы решить, кто будет новым президентом Соединенных Штатов. Демократы и республиканцы выдвигали своих кандидатов, и каждый человек говорил, кого он хочет выбрать президентом. Когда выборы заканчивались, подсчитывали, сколько народа хочет, чтобы президент был от демократов, и сколько – от республиканцев. За кого подали больше голосов, тот и считался избранным. Поняла?
Линда кивнула и спросила:
– А откуда все знали, за кого голосовать? Им Мультивак говорил?
Мэтью свирепо сдвинул брови.
– Они решали это сами!
Линда отодвинулась от него, и он опять понизил голос:
– Я не сержусь на тебя, Линда. Ты понимаешь, порою нужна была целая ночь, чтобы подсчитать голоса, а люди не хотели ждать. И тогда изобрели специальные машины – они смотрели на первые несколько бюллетеней и сравнивали их с бюллетенями из тех же мест за прошлые годы. Так машина могла подсчитать, какой будет общий итог и кого выберут. Понятно?
Она кивнула:
– Как Мультивак.
– Первые вычислительные машины были намного меньше Мультивака. Но они становились все больше и больше и могли определить, как пройдут выборы, по все меньшему и меньшему числу голосов. А потом в конце концов построили Мультивак, который способен абсолютно все решить по одному голосу.
Линда улыбнулась, потому что это ей было понятно, и сказала:
– Вот и хорошо.
Мэтью нахмурился и возразил:
– Ничего хорошего. Я не желаю, чтобы какая то машина мне говорила, за кого я должен голосовать, потому, дескать, что какой то зубоскал в Милуоки высказался против повышения тарифов. Может, я хочу проголосовать не за того, за кого надо, коли мне так нравится, может, я вообще не хочу голосовать. Может…
Но Линда уже сползла с его колен и побежала к двери.
На пороге она столкнулась с матерью. Сара, не сняв ни пальто, ни шляпу, проговорила, еле переводя дыхание:
– Беги играть, Линда. Не путайся у мамы под ногами.
Потом, сняв шляпу и приглаживая рукой волосы, она обратилась к Мэтью:
– Я была у Агаты.
Мэтью окинул ее сердитым взглядом и, не удостоив это сообщение даже обычным хмыканьем, потянулся за газетой.
Сара добавила, расстегивая пальто:
– И знаешь, что она мне сказала?
Мэтью с треском расправил газету, собираясь вновь погрузиться в чтение, и ответил:
– Не интересуюсь.
Сара начала было: «Все таки, отец…», – но сердиться было некогда. Новость жгла ей язык, а слушателя под рукой, кроме Мэтью, не оказалось, и она продолжала:
– Ведь Джо, муж Агаты, – полицейский, и он говорит, что вчера вечером в Блумингтон прикатил целый грузовик с агентами секретной службы.
– Это не за мной.
– Как ты не понимаешь, отец! Агенты секретной службы, а выборы совсем на носу. В Блумингтон!
– Может, кто нибудь ограбил банк.
– Да у нас в городе уже сто лет никто банков не грабит. Отец, с тобой бесполезно разговаривать.
И она сердито вышла из комнаты.
И Норман Маллер не слишком взволновался, узнав эти новости.
– Скажи, пожалуйста, Сара, откуда Джо знает, что это агенты секретной службы? – спросил он невозмутимо. – Вряд ли они расхаживают по городу, приклеив удостоверения на лоб.
Однако на следующий вечер, первого ноября, Сара торжествующе заявила:
– Все до одного в Блумингтоне считают, что избирателем будет кто то из местных. «Блумингтон ньюс» почти прямо сообщила об этом по видео.
Норман поежился. Жена говорила правду, и сердце у него упало. Если Мультивак и в самом деле обрушит свою молнию на Блумингтон, это означает несметные толпы репортеров, туристов, особые видеопрограммы – всякую непривычную суету.
Норман дорожил тихой и спокойной жизнью, и его пугал все нарастающий гул политических событий.
Он заметил:
– Все это пока только слухи.
– А ты подожди, подожди немножко.
Ждать пришлось недолго. Раздался настойчивый звонок, и, когда Норман открыл дверь со словами: «Что вам угодно?», высокий человек с хмурым лицом спросил его:
– Вы Норман Маллер?
Норман растерянным, замирающим голосом ответил:
– Да.
По тому, как себя держал незнакомец, можно было легко догадаться, что он лицо, облеченное властью, а цель его прихода вдруг стала настолько же очевидной, неизбежной, насколько за мгновение до того она казалась невероятной, немыслимой.
Незнакомец предъявил свое удостоверение, вошел, закрыл за собой дверь и произнес ритуальные слова:
– Мистер Норман Маллер, от имени президента Соединенных Штатов я уполномочен сообщить вам, что на вас пал выбор представлять американских избирателей во вторник, четвертого ноября 2008 года.
Норман Маллер с трудом сумел добраться без посторонней помощи до стула. Так он и сидел – бледный как полотно, еле сознавая, что происходит, а Сара поила его водой, в смятении растирала руки и бормотала сквозь стиснутые зубы:
– Не заболей, Норман. Только не заболей. А то найдут кого нибудь еще.
Когда к Норману вернулся дар речи, он прошептал:
– Прощу прощения, сэр.
Агент секретной службы уже снял пальто и, расстегнув пиджак, непринужденно расположился на диване.
– Ничего, – сказал он. (Он оставил официальный тон, как только покончил с формальностями, и теперь это был просто рослый и весьма доброжелательный человек.) Я уже шестой раз делаю это объявление – видел всякого рода реакции. Но только не ту, которую показывают по видео. Ну, вы и сами знаете: человек самоотверженно, с энтузиазмом восклицает: «Служить своей родине – великая честь!» Или что то в таком же духе и не менее патетически. – Агент добродушно и дружелюбно засмеялся.
Сара вторила ему, но в ее смехе слышались истерически визгливые нотки.
Агент продолжал:
– А теперь придется вам некоторое время потерпеть меня в доме. Меня зовут Фил Хэндли. Называйте меня просто Фил. До Дня Выборов мистеру Маллеру нельзя будет выходить из дому. Вам придется сообщить в магазин, миссис Маллер, что он заболел. Сами вы можете пока что заниматься обычными делами, но никому ни о чем ни слова. Я надеюсь, вы меня поняли и мы договорились, миссис Маллер?
Сара энергично закивала.
– Да, сэр. Ни слова.
– Прекрасно. Но, миссис Маллер, – лицо Хэндли стало очень серьезным, – это не шутки. Выходите из дому только в случае необходимости, и за вами будут следить. Мне очень неприятно, но так у нас положено.
– Следить?
– Никто этого не заметит. Не волнуйтесь. К тому же это всего на два дня, до официального объявления. Ваша дочь…
– Она уже легла, – поспешно вставила Сара.
– Прекрасно. Ей нужно будет сказать, что я ваш родственник или знакомый и приехал к вам погостить. Если же она узнает правду, придется не выпускать ее из дому. А вашему отцу не следует выходить в любом случае.
– Он рассердится, – сказала Сара.
– Ничего не поделаешь. Итак, значит, со всеми членами вашей семьи мы разобрались и теперь…
– Похоже, вы знаете про нас все, – еле слышно сказал Норман.
– Немало, – согласился Хэндли. – Как бы то ни было, пока у меня для вас инструкций больше нет. Я постараюсь быть полезным чем могу и не слишком надоедать вам. Правительство оплачивает расходы по моему содержанию, так что у вас не будет лишних затрат. Каждый вечер меня будет сменять другой агент, который будет дежурить в этой комнате. Значит, лишняя постель не нужна. И вот что, мистер Маллер…
– Да, сэр?
– Зовите меня просто Фил, – повторил агент. – Эти два дня до официального сообщения вам дают для того, чтобы вы успели привыкнуть к своей роли и предстали перед Мультиваком в нормальном душевном состоянии. Не волнуйтесь и постарайтесь себя убедить, что ничего особенного не случилось. Хорошо?
– Хорошо, – сказал Норман и вдруг яростно замотал головой. – Но я не хочу брать на себя такую ответственность. Почему непременно я?
– Ладно, – сказал Хэндли. – Давайте сразу во всем разберемся. Мультивак обрабатывает самые различные факторы, миллиарды факторов. Один фактор, однако, неизвестен и будет неизвестен еще долго. Это умонастроение личности. Все американцы подвергаются воздействию слов и поступков других американцев. Мультивак может оценить настроение любого американца. И это дает возможность проанализировать настроение всех граждан страны. В зависимости от событий года одни американцы больше подходят для этой цели, другие меньше. Мультивак выбрал вас как самого типичного представителя страны для этого года. Не как самого умного, сильного или удачливого, а просто как самого типичного. А выводы Мультивака сомнению не подлежат, не так ли?
– А разве он не может ошибиться? – спросил Норман.
Сара нетерпеливо прервала мужа:
– Не слушайте его, сэр. Он просто нервничает. Вообще то он человек начитанный и всегда следит за политикой.
Хэндли сказал:
– Решения принимает Мультивак, миссис Маллер. Он выбрал вашего мужа.
– Но разве ему все известно? – упрямо настаивал Норман. – Разве он не может ошибиться?
– Может. Я буду с вами вполне откровенным. В 1993 году избиратель скончался от удара за два часа до того, как его должны были предупредить о назначении. Мультивак этого не предсказал – не мог предсказать. У избирателя может быть неустойчивая психика, невысокие моральные правила, или, если уж на то пошло, он может быть вообще нелояльным. Мультивак не в состоянии знать все о каждом человеке, пока он не получил о нем всех сведений, какие только имеются. Поэтому всегда наготове запасные кандидатуры. Но вряд ли на этот раз они нам понадобятся. Вы вполне здоровы, мистер Маллер, и вы прошли тщательную заочную проверку. Вы подходите.
Норман закрыл лицо руками и замер в неподвижности.
– Завтра к утру, сэр, – сказала Сара, – он придет в себя. Ему только надо свыкнуться с этой мыслью, вот и все.
– Разумеется, – согласился Хэндли.
Когда они остались наедине в спальне, Сара Маллер выразила свою точку зрения по другому и гораздо энергичнее. Смысл ее нотаций был таков: «Возьми себя в руки, Норман. Ты ведь изо всех сил стараешься упустить возможность, которая выпадает раз в жизни».
Норман прошептал в отчаянии:
– Я боюсь, Сара. Боюсь всего этого.
– Господи, почему? Неужели так страшно ответить на один два вопроса?
– Слишком большая ответственность. Она мне не по силам.
– Ответственность? Никакой ответственности нет. Тебя выбрал Мультивак. Вся ответственность лежит на Мультиваке. Это знает каждый.
Норман сел в кровати, охваченный внезапным приступом гнева и тоски:
– Считается, что знает каждый. А никто ничего знать не хочет. Никто…
– Тише, – злобно прошипела Сара. – Тебя на другом конце города слышно.
– …ничего знать не хочет, – повторил Норман, сразу понизив голос до шепота. – Когда говорят о правительстве Риджли 1988 года, разве кто нибудь скажет, что он победил на выборах потому, что наобещал золотые горы и плел расистский вздор? Ничего подобного! Нет, они говорят «выбор сволочи Маккомбера», словно только Хамфри Маккомбер приложил к этому руку, а он то отвечал на вопросы Мультивака и больше ничего. Я и сам так говорил, а вот теперь я понимаю, что бедняга был всего навсего простым фермером и не просил назначать его избирателем. Так почему же он виноват больше других? А теперь его имя стало ругательством.
– Рассуждаешь, как ребенок, – сказала Сара.
– Рассуждаю, как взрослый человек. Вот что, Сара, я откажусь. Они меня не могут заставить, если я не хочу. Скажу, что я болен. Скажу…
Но Саре это уже надоело.
– А теперь послушай меня, – прошептала она в холодной ярости. – Ты не имеешь права думать только о себе. Ты сам знаешь, что такое избиратель года. Да еще в год президентских выборов. Реклама, и слава, и, может быть, куча денег…
– А потом опять становись к прилавку.
– Никаких прилавков! Тебя назначат по крайней мере управляющим одного из филиалов, если будешь все делать по умному, а уж это я беру на себя. Если ты правильно разыграешь свои карты, то «Универсальным магазинам Кеннелла» придется заключить с тобой выгодный для нас контракт – с пунктом о регулярном увеличении твоего жалованья и обязательством выплачивать тебе приличную пенсию.
– Избирателя, Сара, назначают вовсе не для этого.
– А тебя – как раз для этого. Если ты не желаешь думать о себе или обо мне – я же прошу не для себя! – то о Линде ты подумать обязан.
Норман застонал.
– Обязан или нет? – грозно спросила Сара.
– Да, милочка, – прошептал Норман.
Третьего ноября последовало официальное сообщение, и теперь Норман уже не мог бы отказаться, даже если бы у него хватило на это мужества.
Они были полностью изолированы от внешнего мира. Агенты секретной службы, уже не скрываясь, преграждали всякий доступ в дом.
Сначала беспрерывно звонил телефон, но на все звонки с чарующе виноватой улыбкой Филип Хэндли отвечал сам. В конце концов станция попросту переключила телефон на полицейский участок.
Норман полагал, что так его спасают не только от захлебывающихся от поздравлений (и зависти) друзей, но и от бессовестных приставаний коммивояжеров, чующих возможную прибыль, от расчетливой вкрадчивости политиканов со всей страны… А может, и от полоумных фанатиков, готовых разделаться с ним.
В дом запретили приносить газеты, чтобы оградить Нормана от их воздействия, а телевизор отключили – деликатно, но решительно, и громкие протесты Линды не помогли.
Мэтью ворчал и не покидал своей комнаты; Линда, когда первые восторги улеглись, начала дуться и капризничать, потому что ей не позволяли выходить из дому; Сара делила время между стряпней и планами на будущее; а настроение Нормана становилось все более и более угнетенным под влиянием одних и тех же мыслей.
И вот наконец настало утро четвертого ноября 2008 года, наступил День Выборов.
Завтракать сели рано, но ел один только Норман Маллер, да и то по привычке. Ни ванна, ни бритье не смогли вернуть его к действительности или избавить от чувства, что и вид у него такой же скверный, как душевное состояние.
Хэндли изо всех сил старался разрядить напряжение, но даже его дружеский голос не мог смягчить враждебности серого рассвета. (В прогнозе погоды было сказано: облачность, в первую половину дня возможен дождь.)
Хэндли предупредил:
– До возвращения мистера Маллера дом останется по прежнему под охраной, а потом мы избавим вас от своего присутствия.
Агент секретной службы на этот раз был в полной парадной форме, включая окованную медью кобуру на боку.
– Вы же совсем не были нам в тягость, мистер Хэндли, – сладко улыбнулась Сара.
Норман выпил две чашки кофе, вытер губы салфеткой, встал и произнес каким то страдальческим голосом:
– Я готов.
Хэндли тоже поднялся.
– Прекрасно, сэр. И благодарю вас, миссис Маллер, за любезное гостеприимство.
Бронированный автомобиль урча несся по пустынным улицам. Даже для такого раннего часа на улицах было слишком пусто.
Хэндли обратил на это внимание Нормана и добавил:
– На улицах, по которым пролегает наш маршрут, теперь всегда закрывается движение – это правило было введено после того, как покушение террориста в девяносто втором году чуть не сорвало выборы Леверетта.
Когда машина остановилась, Хэндли, предупредительный, как всегда, помог Маллеру выйти. Они оказались в подземном коридоре, вдоль стен которого шеренги солдат замерли по стойке «смирно».
Маллера проводили в ярко освещенную комнату, где три человека в белых халатах встретили его приветливыми улыбками.
Норман сказал резко:
– Но ведь это же больница!
– Неважно, – тотчас же ответил Хэндли. – Просто в больнице есть все необходимое оборудование.
– Ну, так что же я должен делать?
Хэндли кивнул. Один из трех людей в белых халатах шагнул к ним и сказал:
– Вы передаете его мне.
Хэндли небрежно козырнул и вышел из комнаты.
Человек в белом халате проговорил:
– Не угодно ли вам сесть, мистер Маллер? Я Джон Полсон, старший вычислитель. Это Самсон Левин и Питер Дорогобуж, мои помощники.
Норман тупо пожал всем руки. Полсон был невысок, его лицо с расплывчатыми чертами, казалось, привыкло вечно улыбаться. Он носил очки в старомодной пластиковой оправе и накладку, плохо маскировавшую плешь. Разговаривая, Полсон закурил сигарету. (Он протянул пачку и Норману, но тот отказался.)
Полсон сказал:
– Прежде всего, мистер Маллер, я хочу предупредить вас, что мы никуда не торопимся. Если понадобится, вы можете пробыть здесь с нами хоть целый день, чтобы привыкнуть к обстановке и избавиться от ощущения, будто в этом есть что то необычное, какая то клиническая сторона, если можно так выразиться.
– Это мне ясно, – сказал Норман. – Но я предпочел бы, чтобы это кончилось поскорее.
– Я вас понимаю. И тем не менее нужно, чтобы вы ясно представляли себе, что происходит. Прежде всего, Мультивак находится не здесь.
– Не здесь? – Все это время, как он ни был подавлен, Норман таил надежду увидеть Мультивак. По слухам, он достигал полумили в длину и был в три этажа высотой, а в коридорах внутри его – подумать только! – постоянно дежурят пятьдесят специалистов. Это было одно из чудес света.
Полсон улыбнулся.
– Вот именно. Видите ли, он не совсем портативен. Говоря серьезно, он помещается под землей, и мало кому известно, где именно. Это и понятно, ведь Мультивак – наше величайшее богатство. Поверьте мне, выборы не единственное, для чего используют Мультивак.
Норман подумал, что разговорчивость его собеседника не случайна, но все таки его разбирало любопытство.
– А я думал, что увижу его. Мне бы этого очень хотелось.
– Разумеется. Но для этого нужно распоряжение президента, и даже в таком случае требуется виза Службы безопасности. Однако мы соединены с Мультиваком прямой связью. То, что сообщает Мультивак, можно расшифровать здесь, а то, что мы говорим, передается прямо Мультиваку; таким образом, мы как бы находимся в его присутствии.
Норман огляделся. Кругом стояли непонятные машины.
– А теперь разрешите мне объяснить вам процедуру, мистер Маллер, – продолжал Полсон. – Мультивак уже получил почти всю информацию, которая ему требуется для определения кандидатов в органы власти всей страны, отдельных штатов и местные. Ему нужно только свериться с не поддающимся выведению умонастроением личности, и вот тут то ему и нужны вы. Мы не в состоянии сказать, какие он задаст вопросы, но они и вам, и даже нам, возможно, покажутся почти бессмысленными. Он, скажем, спросит вас, как, на ваш взгляд, поставлена очистка улиц вашего города и как вы относитесь к централизованным мусоросжигателям. А может быть, он спросит, лечитесь ли вы у своего постоянного врача или пользуетесь услугами Национальной медицинской компании. Вы понимаете?
– Да, сэр.
– Что бы он ни спросил, отвечайте своими словами, как вам угодно. Если вам покажется, что объяснять нужно многое, не стесняйтесь. Говорите хоть час, если понадобится.
– Понимаю, сэр.
– И еще одно. Нам потребуется использовать кое какую несложную аппаратуру. Пока вы говорите, она будет автоматически записывать ваше давление, работу сердца, проводимость кожи, биотоки мозга. Аппараты могут испугать вас, но все это совершенно безболезненно. Вы даже не почувствуете, что они включены.
Его помощники уже хлопотали около мягко поблескивающего агрегата на хорошо смазанных колесах.
Норман спросил:
– Это чтобы проверить, говорю ли я правду?
– Вовсе нет, мистер Маллер. Дело не во лжи. Речь идет только об эмоциональном напряжении. Если машина спросит ваше мнение о школе, где учится ваша дочь, вы, возможно, ответите: «По моему, классы в ней переполнены». Это только слова. По тому, как работает ваш мозг, сердце, железы внутренней секреции и потовые железы, Мультивак может точно определить, насколько вас волнует этот вопрос. Он поймет, что вы испытываете, лучше, чем вы сами.
– Я об этом ничего не знал, – сказал Норман.
– Конечно! Ведь большинство сведений о методах работы Мультивака являются государственной тайной. И, когда вы будете уходить, вас попросят дать подписку, что вы не будете разглашать, какого рода вопросы вам задавались, что вы на них ответили, что здесь происходило и как. Чем меньше известно о Мультиваке, тем меньше шансов, что кто то посторонний попытается повлиять на тех, кто с ним работает. – Он мрачно улыбнулся. – У нас и без того жизнь нелегкая.
Норман кивнул.
– Понимаю.
– А теперь, быть может, вы хотите есть или пить?
– Нет. Пока что нет.
– У вас есть вопросы?
Норман покачал головой.
– В таком случае скажите нам, когда вы будете готовы.
– Я уже готов.
– Вы уверены?
– Вполне.
Полсон кивнул и дал знак своим помощникам начинать.
Они двинулись к Норману с устрашающими аппаратами, и он почувствовал, как у него участилось дыхание.
Мучительная процедура длилась почти три часа и прерывалась всего на несколько минут, чтобы Норман мог выпить чашку кофе и, к величайшему его смущению, воспользоваться ночным горшком. Все это время он был прикован к машинам. Под конец он смертельно устал.
Он подумал с иронией, что выполнить обещание ничего не разглашать будет очень легко. У него уже от вопросов была полная каша в голове.
Почему то раньше Норман думал, что Мультивак будет говорить загробным, нечеловеческим голосом, звучным и рокочущим; очевидно, это представление ему навеяли бесконечные телевизионные передачи, решил он теперь. Действительность оказалась до обидного неромантичной. Вопросы поступали на полосках какой то металлической фольги, испещренных множеством проколов. Вторая машина превращала проколы в слова, и Полсон читал эти слова Норману, а затем передавал ему вопрос, чтобы он прочел его сам.
Ответы Нормана записывались на магнитофонную пленку, их проигрывали, а Норман слушал, все ли верно, и его поправки и добавления тут же записывались.
Затем пленка заправлялась в перфорационный аппарат и результаты передавались Мультиваку.
Единственный вопрос, запомнившийся Норману, был словно выхвачен из болтовни двух кумушек и совсем не вязался с торжественностью момента: «Что вы думаете о ценах на яйца?»
И вот все позади: с его тела осторожно сняли многочисленные электроды, распустили пульсирующую повязку на предплечье, убрали аппаратуру.
Норман встал, глубоко и судорожно вздохнул и спросил:
– Все? Я свободен?
– Не совсем. – Полсон спешил к нему с ободряющей улыбкой. – Мы бы просили вас задержаться еще на часок.
– Зачем? – встревожился Норман.
– Приблизительно такой срок нужен Мультиваку, чтобы увязать полученные новые данные с миллиардами уже имеющихся у него сведений. Видите ли, он должен учитывать тысячи других выборов. Дело очень сложное. И может оказаться, что какое нибудь назначение окажется неувязанным, скажем, санитарного инспектора в городе Феникс, штат Аризона, или же муниципального советника в Уилксборо, штат Северная Каролина. В таком случае Мультивак будет вынужден задать вам еще несколько решающих вопросов.
– Нет, – сказал Норман. – Я ни за что больше не соглашусь.
– Возможно, этого и не потребуется, – уверил его Полсон. – Такое положение возникает крайне редко. Но просто на всякий случай вам придется подождать. – В его голосе зазвучали еле заметные стальные нотки. – Ваши желания тут ничего не решают. Вы обязаны.
Норман устало опустился на стул и пожал плечами.
Полсон продолжал:
– Читать газеты вам не разрешается, но, если детективные романы, или партия в шахматы, или еще что нибудь в этом роде помогут вам скоротать время, вам достаточно только сказать.
– Ничего не надо. Я просто посижу.
Его провели в маленькую комнату рядом с той, где он отвечал на вопросы. Он сел в кресло, обтянутое пластиком, и закрыл глаза.
Хочешь не хочешь, а нужно ждать, пока истечет этот последний час.
Он сидел не двигаясь, и постепенно напряжение спало. Дыхание стало не таким прерывистым, и дрожь в пальцах уже не мешала сжимать руки.
Может, вопросов больше и не будет. Может, все кончилось.
Если это так, то дальше его ждут факельные шествия и выступления на всевозможных приемах и собраниях. Избиратель этого года!
Он, Норман Маллер, обыкновенный продавец из маленького универмага в Блумингтоне, штат Индиана, не рожденный великим, не добившийся величия собственными заслугами, попал в необычайное положение: его вынудили стать великим.
Историки будут торжественно упоминать Выборы Маллера в 2008 году. Ведь эти выборы будут называться именно так – Выборы Маллера.
Слава, повышение в должности, сверкающий денежный поток – все то, что было так важно для Сары, почти не занимало его. Конечно, это очень приятно, и он не собирается отказываться от подобных благ. Но в эту минуту его занимало совершенно Другое.
В нем вдруг проснулся патриотизм. Что ни говори, а он представляет здесь всех избирателей страны. Их чаяния собраны в нем, как в фокусе. На этот единственный день он стал воплощением всей Америки!
Дверь открылась, и Норман весь обратился в слух. На мгновение он внутренне сжался. Неужели опять вопросы?
Но Полсон улыбался.
– Все, мистер Маллер.
– И больше никаких вопросов, сэр?
– Ни единого. Прошло без всяких осложнений. Вас отвезут домой, и вы снова станете частным лицом, конечно, насколько вам позволит широкая публика.
– Спасибо, спасибо. – Норман покраснел и спросил: – Интересно, а кто избран?
Полсон покачал головой.
– Придется ждать официального сообщения. Правила очень строгие. Мы даже вам не имеем права сказать. Я думаю, вы понимаете.
– Конечно. Ну, конечно, – смущенно ответил Норман.
– Агент Службы безопасности даст вам подписать необходимые документы.
– Хорошо.
И вдруг Норман ощутил гордость. Неимоверную гордость. Он гордился собой.
В этом несовершенном мире суверенные граждане первой в мире и величайшей Электронной Демократии через Нормана Маллера (да, через него!) вновь осуществили принадлежащее им свободное, ничем не ограниченное право выбирать свое правительство!
Остряк
Ноэл Меерхоф просматривал список, решая, с чего начать. Как всегда, он положился в основном на интуицию.
Меерхоф казался пигмеем рядом с машиной, а ведь была видна лишь незначительная ее часть. Но это роли не играло. Он заговорил с бесцеремонной уверенностью человека, твердо знающего, что он здесь хозяин.
– Гарри Джонс, член масонской ложи, – сказал он, – за завтраком обсуждал с женой подробности вчерашнего заседания братьев масонов. Оказывается, президент ложи выступил с обещанием подарить шелковый цилиндр тому, кто встанет и поклянется, что за годы семейной жизни не целовал ни одной женщины, кроме своей жены. «И поверишь ли, Эллен, никто не встал». – «Гарри, – удивилась жена, – а ты то почему не встал?» – «Да знаешь, я уж совсем было хотел, но вовремя спохватился, что мне страшно не пойдет шелковый цилиндр».
Меерхоф подумал: «Ладно, проглотила, теперь пусть переварит».
Кто то окликнул его сзади:
– Эй!
Меерхоф стер это междометие из памяти машины и перевел цепь в нейтральную позицию. Он круто обернулся:
– Я занят. В дверь принято стучать – вам что, не известно?
Против обыкновения Меерхоф не улыбнулся, отвечая на приветствие Тимоти Уистлера – старшего аналитика, с которым он сталкивался по работе не реже, чем с другими. Меерхоф насупился, словно ему помешал чужой человек: его худое лицо исказилось гримасой, волосы взъерошились пуще прежнего.
Уистлер пожал плечами. На нем был белый халат, руки он держал в карманах, отчего на ткани образовались вертикальные складки.
– Я постучался. Вы не ответили. А сигнал «Не мешать» погашен.
Меерхоф что то промычал. Сигнал и вправду не был включен. Поглощенный новым исследованием, Меерхоф забывал о мелочах.
И все же ему не в чем было себя упрекнуть. Дело то важное.
Почему важное, он, разумеется, не знал. Гроссмейстеры редко это знают. Оттого то они и гроссмейстеры, что действуют по наитию. А как еще может человеческий мозг угнаться за сгустком разума пятнадцатикилометровой длины, называемым Мультивак, – за самой сложной на свете вычислительной машиной?
– Я работаю, – сказал Меерхоф. – У вас что нибудь срочное?
– Потерпит. Я обнаружил пробелы в ответах о гиперпространственном…– С некоторым запозданием на лице Уистлера отразилась богатая гамма эмоций, завершившаяся унылой миной неуверенности. – Работаете?
– Да. А что тут особенного?
– Но ведь… Уистлер огляделся по сторонам, обведя взглядом всю небольшую комнату, загроможденную бесчисленными реле – ничтожно малой частью Мультивака. – Здесь ведь никого нет.
– А кто говорит, что здесь кто то есть или должен быть?
– Вы рассказывали очередной анекдот, не так ли?
– Ну и что?
Уистлер натянуто улыбнулся.
– Не станете же вы уверять, будто рассказывали анекдот Мультиваку?
Меерхоф приготовился к отпору.
– А почему бы и нет?
– Мультиваку?
– Да.
– Зачем?
Меерхоф смерил Уистлера взглядом.
– Не собираюсь перед вами отчитываться. И вообще ни перед кем не собираюсь.
– Боже упаси, ну конечно, вы и не обязаны. Я просто полюбопытствовал, вот и все… Но если вы заняты, я пойду.
Нахмурясь, Уистлер еще раз огляделся по сторонам.
– Ступайте, – сказал Меерхоф. Он взглядом проводил Уистлера до самой двери, а потом свирепо ткнул пальцем в кнопку – включил сигнал «Не мешать».
Меерхоф шагал взад вперед по комнате, стараясь взять себя в руки. Черт бы побрал Уистлера! Черт бы побрал их всех! Только из за того, что Меерхоф не дает себе труда держать техников, аналитиков в механиков на подобающей дистанции, обращается с ними, будто они тоже люди творческого труда, они и позволяют себе вольности.
«А сами толком и анекдота рассказать не умеют», – мрачно подумал Меерхоф.
Эта мысль мгновенно вернула его к текущей задаче. Он снова уселся. Ну их всех к дьяволу.
Он активировал соответствующую цепь Мультивака и сказал:
– Во время особенно сильной качки стюард остановился у борта и с состраданием посмотрел на пассажира, который перегнулся через перила и всей своей позой, а также тем, как напряженно вглядывался он в океанскую пучину, являл зрелище жесточайших мук морской болезни. Стюард легонько хлопнул пассажира по плечу. «Мужайтесь, сэр, – шепнул он. – Я знаю, вам кажется, будто дело скверно, однако, право же, от морской болезни никто не умирал». Несчастный пассажир обратил к утешителю позеленевшее, искаженное лицо и хрипло, с трудом произнес: «Не надо так говорить, приятель. Ради всего святого, не надо. Я живу только надеждой на смерть».
Как ни был озабочен Тимоти Уистлер, он все же улыбнулся и кивнул, проходя мимо письменного стола девушки секретаря. Та улыбнулась в ответ.
«Вот, – подумал он, – архаизм в двадцать первом веке, в эпоху вычислительных машин: живой секретарь! А впрочем, может быть, так и нужно, чтобы эта реалия сохранилась в самой цитадели вычислительной державы, в гигантском мире корпорации, ведающей Мультиваком. Там, где Мультивак заслоняет горизонты, применение маломощных вычислителей для повседневной канцелярской работы было бы дурным вкусом».
Уистлер вошел в кабинет Эбрема Траска. Уполномоченный ФБР сосредоточенно разжигал трубку; рука его на мгновение замерла, черные глаза сверкнули при виде Уистлера, крючковатый нос четко и контрастно обрисовался на фоне прямоугольного окна.
– А, это вы, Уистлер. Садитесь. Садитесь.
Уистлер сел.
– Мне кажется, мы стоим перед проблемой, Траск.
Траск улыбнулся краешком рта.
– Надеюсь, не технической. Я всего лишь невежественный администратор.
Это была одна из любимых его фраз.
– Насчет Меерхофа.
Траск тотчас уселся, вид у него стал разнесчастный.
– Вы уверены?
– Совершенно уверен.
Уистлер хорошо понимал недовольство собеседника. Уполномоченный ФБР Траск руководил отделом вычислительных машин и автоматики департамента внутренних дел. Он решал вопросы, касающиеся человеческих придатков Мультивака, точно так же, как эти технически натасканные придатки решали вопросы, касающиеся самого Мультивака.
Но гроссмейстер нечто большее, чем просто придаток. Даже нечто большее, чем просто человек.
На заре истории Мультивака выяснилось, что самый ответственный участок
– это постановка вопросов. Мультивак решает проблемы для человечества, он может разрешить проблемы, если… если ему зададут осмысленные вопросы. Но по мере накопления знаний, которое происходило все интенсивнее, ставить осмысленные вопросы становилось все труднее и труднее.
Одного рассудка тут мало. Нужна редкостная интуиция; тот же талант (только куда более ярко выраженный), каким наделен шахматный гроссмейстер. Нужен ум, который способен из квадрильонов шахматных ходов отобрать наилучший, причем сделать это за несколько минут.
Траск беспокойно заерзал на стуле.
– Так что же Меерхоф?
– Вводит в машину новую серию вопросов; на мой взгляд, он пошел по опасному пути.
– Да полно вам, Уистлер. Только и всего? Гроссмейстер может задавать вопросы любого характера, если считает нужным. Ни мне, ни вам не дано судить о том, чего стоят его вопросы. Вы ведь это знаете. Да и я знаю, что вы знаете.
– Конечно. Согласен. Но я ведь и Меерхофа знаю. Вы с ним когда нибудь встречались вне службы?
– О господи, нет. А разве с гроссмейстерами встречаются вне службы?
– Не становитесь в такую позу, Траск. Гроссмейстеры – люди, их надо жалеть. Задумывались ли вы над тем, каково быть гроссмейстером; знать, что в мире только десять двенадцать тебе подобных; знать, что таких на поколение приходится один или два; что от тебя зависит весь мир; что у тебя под началом тысячи математиков, логиков, психологов и физиков?
– О господи, да я бы чувствовал себя владыкой мира, – пробормотал Траск, пожав плечами.
– Не думаю, – нетерпеливо прервал его старший аналитик. – Они себя чувствуют владыками пустоты. У них нет равных, им не с кем поболтать, они лишены чувства локтя. Послушайте. Меерхоф никогда не упускает случая побыть с нашими ребятами. Он, естественно, не женат, не пьет, по складу характера не компанейский человек… и все же заставляет себя присоединяться к компании, потому что иначе не может. Так знаете ли, что он делает, когда мы собираемся, а это бывает не реже раза в неделю?
– Представления не имею, – сказал уполномоченный ФБР. – Все это для меня новости.
– Он острит.
– Что?
– Анекдоты рассказывает. Отменные. Пользуется бешеным успехом. Он может выложить любую историю, даже самую старую и скучную, и будет смешно. Все дело в том, как он рассказывает. У него особое чутье.
– Понимаю. Что ж, хорошо.
– А может быть, плохо. К этим анекдотам он относится серьезно. – Уистлер обеими руками облокотился на стол Траска, прикусил губу и отвел глаза. – Он не такой, как все, он и сам это знает и полагает, что только анекдотами можно пронять таких заурядных трепачей, как мы. Мы смеемся, мы хохочем, мы хлопаем его по плечу и даже забываем, что он гроссмейстер. Только в этом и проявляется его влияние на сослуживцев.
– Очень интересно. Я и не знал, что вы такой тонкий психолог. Но к чему вы клоните?
– А вот к чему. Как вы думаете, что случится, если Меерхоф исчерпает свой запас анекдотов?
– Что? – Уполномоченный ФБР непонимающе уставился на собеседника.
– Вдруг он начнет повторяться? Вдруг слушатели станут хохотать не так заразительно или вообще прекратят смеяться? Ведь это единственное, чем он может вызвать у нас одобрение. Без этого он окажется в одиночестве, и что же тогда с ним будет? В конце концов он – один из дюжины людей, без которых человечеству никак не обойтись. Нельзя допустить, чтобы с ним что то случилось. Я имею в виду не только физические травмы. Нельзя позволить ему впасть в меланхолию. Кто знает, как плохое настроение отразится на его интуиции?
– А что, он начал повторяться?
– Насколько мне известно, нет, но, по моему, он считает, что начал.
– Почему вы так думаете?
– Потому что я подслушал, как он рассказывает анекдоты Мультиваку.
– Не может быть.
– Совершенно случайно. Вошел без стука, и Меерхоф меня выгнал. Он был вне себя. Обычно он добродушен, и мне кажется, такое бурное недовольство моим внезапным появлением – дурной признак. Но факт остается фактом: Меерхоф рассказывал Мультиваку анекдот, да к тому же, я убежден, не первый и не последний.
– Но зачем?
Уистлер пожал плечами, яростно растер подбородок.
– Вот и меня это озадачило. Я думаю, Меерхоф хочет аккумулировать запас анекдотов в памяти Мультивака, чтобы получать от него новые вариации. Вам понятна моя мысль? Он намерен создать кибернетического остряка, чтобы располагать анекдотами в неограниченном количестве и не бояться, что запас когда нибудь истощится.
– О господи!
– Объективно тут, может быть, ничего плохого и нет, но, по моим понятиям, если гроссмейстер использует Мультивака для личных целей, это скверный признак. У всех гроссмейстеров ум неустойчивый, за ними надо следить. Возможно, Меерхоф приближается к грани, за которой мы потеряем гроссмейстера.
– Что вы предлагаете? – бесстрастно осведомился Траск.
– Хоть убейте, не знаю. Наверное, я с ним чересчур тесно связан по работе, чтобы здраво судить о нем, и вообще судить о людях – не моего ума дело. Вы политик, это скорее ваша стихия.
– Судить о людях – да, но не о гроссмейстерах.
– Гроссмейстеры тоже люди. Да и кто это будет делать, если не вы?
Пальцы Траска отстукивали по столу быструю приглушенную барабанную дробь.
– Видно, придется мне.
Меерхоф рассказывал Мультиваку:
В доброе старое время королевский шут однажды увидел, что король умывается, согнувшись в три погибели над лоханью. Развеселившийся шут изо всех сил пнул священную королевскую особу ногой в зад. Король в ярости повелел казнить дерзкого на месте, но тут же сменил гнев на милость и обещал простить шута, если тот ухитрится принести извинение, еще более оскорбительное, чем сам проступок. Осужденный лишь на миг задумался, потом сказал: «Умоляю, ваше величество, о пощаде. Я ведь не знал, что это были вы. Мне показалось, будто это королева».
Меерхоф собирался перейти к следующему анекдоту, но тут его вызвали.
Собственно говоря, даже не вызвали. Гроссмейстеров никто никуда не вызывает. Просто пришла записка с сообщением, что начальник отдела Траск очень хотел бы повидаться с гроссмейстером Меерхофом, если гроссмейстеру Меерхофу не трудно уделить ему несколько минут.
Меерхоф мог безнаказанно швырнуть записку в угол и по прежнему заниматься своим делом. Он не был обязан соблюдать дисциплину.
С другой стороны, если бы он так поступил, к нему бы продолжали приставать, бесспорно, со всей почтительностью, но продолжали бы.
Поэтому он перевел активированные цепи Мультивака в нейтральную позицию и включил блокировку. На двери он вывесил табличку «Опасный эксперимент», чтобы никто не посмел войти в его отсутствие, и ушел в кабинет Траска.
Траск кашлянул, чуть заробев под мрачной беспощадностью гроссмейстерского взгляда. Он сказал:
– К моему великому сожалению, гроссмейстер, у нас до сих пор не было случая познакомиться.
– Я перед вами регулярно отчитываюсь, – сухо возразил Меерхоф.
Траск задумался, что же кроется за пронзительным, горящим взглядом собеседника. Ему трудно было представить себе, как темноволосый Меерхоф, с тонкими чертами лица, внутренне натянутый как тетива, хотя бы на время перевоплощается в рубаху парня и рассказывает смешные байки.
– Отчеты – это официальное знакомство, – ответил он. – Я… мне дали понять, что вы знаете удивительное множество анекдотов.
– Я остряк, сэр. Люди так и выражаются. Остряк.
– При мне никто так не выражался, гроссмейстер. Мне говорили…
– Да черт с ними! Мне все равно, кто что говорил. Послушайте, Траск, хотите анекдот? – Он навалился на письменный стол, сощурив глаза.
– Ради бога… Конечно, хочу, – сказал Траск, силясь говорить искренним тоном.
Ладно. Вот вам анекдот. Миссис Джонс разглядывает карточку с предсказанием судьбы, выпавшую из автоматических весов, куда бросил медяк ее муж, и говорит: «Тут написано, Джордж, что ты учтив, умен, дальновиден, трудолюбив и нравишься женщинам». С этими словами она перевернула карточку и прибавила: «Вес тоже переврали».
Траск засмеялся. Удержаться было почти невозможно. Меерхоф так удачно воспроизвел надменную презрительность в голосе женщины, так похоже скорчил мину под стать голосу, что уполномоченный ФБР невольно развеселился.
– Почему вам смешно? – резко спросил Меерхоф.
– Прошу прощения, – опомнился Траск.
– Я спрашиваю, почему вам смешно? Над чем вы смеетесь?
– Да вот, – ответил Траск, стараясь не терять благоразумия, – последняя фраза представила все предыдущие в новом свете. Неожиданность…
– Странно, – сказал Меерхоф, – ведь я изобразил мужа, которого оскорбляет жена; брак до того неудачен, что жена убеждена, будто у ее мужа вообще нет достоинства. А вы смеетесь. Окажись вы на месте мужа, было бы вам смешно?
На мгновение он задумался, потом продолжал:
– Подумайте над другим анекдотом, Траск. Некий шотландец опоздал на службу на сорок минут. Его вызвали к начальству для объяснений. «Я хотел почистить зубы, – оправдывался шотландец, – но слишком сильно надавил на тюбик, и вся паста вывалилась наружу. Пришлось заталкивать ее обратно в тюбик, а это отняло уйму времени».
Траск попытался сохранить бесстрастие, но у него ничего не вышло. Ему не удалось скрыть усмешки.
– Значит, тоже смешно, – сказал Меерхоф. – Разные глупости. Все смешно.
– Ну, знаете ли, – заметил Траск, – есть масса книг, посвященных анализу юмора.
– Это верно, – согласился Меерхоф, – кое что я прочел. Более того, кое что я читал Мультиваку. Но все же авторы этих книг лишь строят догадки. Некоторые утверждают, будто мы смеемся, оттого что чувствуем свое превосходство над героями анекдота. Некоторые утверждают, будто нам смешно из за неожиданно осознанной нелепости, или внезапной разрядки напряжения, или внезапного освещения событий по новому. А может быть, причина проще. Разные люди смеются после разных анекдотов. Ни один анекдот не универсален. Есть люди, которых вообще не смешат анекдоты. Но, по видимому, главное то, что человек – единственный из животных, наделенный чувством юмора; единственный из животных он умеет смеяться.
– Понимаю, – сказал вдруг Траск. – Вы пытаетесь анализировать юмор. Поэтому и вводится в Мультивак серия анекдотов.
– Откуда вы знаете?.. Ясно, можете не отвечать: от Уистлера, Теперь я вспомнил. Он застал меня врасплох. Ну и что отсюда следует?
– Ровным счетом ничего.
– Вы не оспариваете моего права как угодно расширять объем знаний Мультивака и задавать ему любые вопросы?
– Вовсе нет, – поспешил заверить Траск. – По сути дела, я не сомневаюсь, что тем самым вы откроете путь к новым исследованиям, крайне интересным для психологов.
– Угу. Возможно. Но все равно, мне не дает покоя нечто гораздо более важное, чем общий анализ юмора. Я должен задать конкретный вопрос. Даже два.
– Вот как? Что же это за вопросы? – Траск не был уверен, что Меерхоф захочет ему ответить. Заставить его нельзя будет никакими силами.
Но Меерхоф ответил:
– Первый вопрос такой: откуда берутся анекдоты?
– Что?
– Кто их придумывает? Дело вот в чем. Примерно месяц назад я убил вечер, рассказывая и выслушивая анекдоты. Как всегда, большей частью рассказывал я, как всегда, дурачье смеялось. Может быть, находили анекдоты смешными, а может быть, просто меня ублажали. Во всяком случае, один кретин позволил себе хлопнуть меня по спине и заявить: «Меерхоф, да вы знаете анекдотов больше, чем десяток моих приятелей». Он был прав, спору нет, но это натолкнуло меня на мысль. Не знаю уж сколько сот, а может, тысяч анекдотов пересказал я за свою жизнь, но сам то наверняка ни одного не придумал. Ни единого. Только повторял. Единственный мой вклад в дело юмора – пересказ. Начинаем с того, что анекдоты я либо слыхал, либо читал. Но источник в обоих случаях не был первоисточником. Никогда я не встречал человека, который похвалился бы, что сочинил анекдот. Только и слышишь: «На днях мне рассказали недурной анекдот». Или: «Хорошие анекдоты есть?»
Все анекдоты стары! Вот почему они так отстают от времени. В них до сих пор говорится о морской болезни, хотя в наш век ее ничего не стоит предотвратить и никого она не беспокоит. Или в анекдоте, что я вам сейчас рассказал, фигурируют весы, предсказывающие судьбу, хотя такой агрегат отыщешь разве что в антикварном магазине. Так кто же тогда выдумывает анекдоты?
– Вы это хотите выяснить? – воскликнул Траск. На языке у него так и вертелось: «О господи, да не все ли равно?» Но он не дал воли импульсу. Вопросы гроссмейстера всегда исполнены глубокого смысла.
– Разумеется, именно это я и хочу выяснить. Рассмотрим вопрос с другой стороны. Дело не только в том, что анекдоты, как правило, стары. Они и должны быть старыми, иначе они не имеют успеха. Существенно важно, чтобы анекдот был откуда то заимствован. Есть категория незаимствованного юмора – каламбуры. Мне приходилось слышать каламбуры, явно родившиеся экспромтом. Я и сам каламбурил. Но над каламбурами никто не смеется. Никто и не должен смеяться. Принято стонать. Чем удачнее каламбур, тем громче стонут. Незаимствованный юмор не вызывает смеха. Почему?
– Право, не знаю.
– Ладно. Давайте выясним. Я ввел в Мультивак всю информацию о юморе вообще, какую считал нужной, и теперь пичкаю его избранными анекдотами.
Траск против воли заинтересовался.
– Избранными по какому принципу? – спросил он.
– Не знаю, – ответил Меерхоф. – Мне казалось, что нужны именно они. В конце концов, я ведь гроссмейстер.
– Сдаюсь, сдаюсь.
– Первое задание Мультиваку такое: исходя из этих анекдотов и общей философии юмора, проследить происхождение всех анекдотов. Раз уж Уистлер оказался в курсе дела и счел нужным поставить вас в известность, пусть придет послезавтра в аналитическую лабораторию. Думаю, для него там найдется работа.
– Конечно. А мне можно присутствовать?
Меерхоф пожал плечами. По видимому, присутствие Траска было ему в высшей степени безразлично.
Последний анекдот серии Меерхоф отбирал с особой тщательностью. В чем выразилась эта тщательность, он и сам не мог бы ответить, но перебрал в уме добрый десяток вариантов, снова и снова отыскивая в каждом неуловимые оттенки скрытого смысла. Наконец он сказал:
– К пещерному жителю Угу с плачем подбежала его подруга в измятой юбке из леопардовой шкуры. «Уг, – вскричала она горестно, – беги скорее! К маме в пещеру забрался саблезубый тигр. Да беги же скорее!» Уг фыркнул, поднял с земли обглоданную кость буйвола и ответил: «Зачем бежать? Какое мне дело до того, что станется с саблезубым тигром?»
Тут Меерхоф задал машине два вопроса и, закрыв глаза, откинулся на спинку стула. Он сделал свое дело.
– Никаких аномалий я не заметил, – сообщил Уистлеру Траск. – Он охотно рассказал, над чем работает, это исследование необычное, но законное.
– Уверяет, будто работает, – вставил Уистлер.
– Все равно, не могу я отстранить гроссмейстера единственно по подозрению. Он показался мне странным, но, в конце концов, такими и должны быть гроссмейстеры. Я не считаю его сумасшедшим.
– А поручить Мультиваку найти источник анекдотов – это, по вашему, не сумасшествие? – буркнул старший аналитик.
– Кто знает? – раздраженно ответил Траск. – Наука продвинулась так далеко, что стоит задавать только нелепые вопросы. Все осмысленные давно продуманы и заданы, на них получены ответы.
– Все равно. Я встревожен.
– Может быть, но теперь уже нет выбора, Уистлер. Мы встретимся с Меерхофом, вы проанализируете ответ Мультивака, если он даст ответ. Что до меня, то ведь я занимаюсь только канцелярской волокитой. О господи, я даже не знаю, что делает старший аналитик, вот вы, например; догадываюсь, что аналитик анализирует, но это мне ничего не говорит.
– Все очень просто, – сказал Уистлер. – Гроссмейстер, например Меерхоф, задает вопросы, а Мультивак автоматически выражает их в числах и математических действиях. Большую часть Мультивака занимают устройства, преобразующие слова в символы. Затем Мультивак дает ответ, тоже в числах и действиях, но переводит его на язык слов только в простейших, изо дня в день повторяющихся случаях. Чтобы Мультивак умел совершать универсальные преобразования, его объем пришлось бы по меньшей мере учетверить.
– Понятно. Значит, ваша работа – выражать символы словами?
– Моя работа и работа других аналитиков. Если нужно, мы пользуемся маломощными вычислительными машинами, специально для нас сконструированными. – Уистлер мрачно улыбнулся. – Подобно дельфийской пифии в Древней Греции, Мультивак дает загадочные, неясные ответы. Вся разница в том, что у Мультивака есть переводчики.
Они пришли в лабораторию. Меерхоф уже ждал.
– Какими цепями вы пользовались, гроссмейстер? – деловито спросил Уистлер.
Меерхоф перечислил цепи, и Уистлер принялся за работу.
Траск пытался следить за происходящим, но оно не поддавалось истолкованию. Чиновник смотрел, как разматывается бесконечная лента, усеянная непонятными узорами точек. Гроссмейстер Меерхоф равнодушно стоял в стороне, а Уистлер рассматривал появляющиеся узоры. Аналитик надел наушники, вооружился микрофоном и время от времени негромко давал инструкции, которые помогали его коллегам где то в дальнем помещении вылавливать электронные погрешности у других вычислительных машин.
Прошло больше часа.
Уистлер все суровее хмурил лоб. Он перевел взгляд на Меерхофа и Траска, начал было «Невероя…» и снова углубился в работу.
Наконец он хрипло произнес:
– Могу сообщить вам ответ неофициально. – Глаза у него были воспаленные. – Официальное сообщение отложим до завершения анализа. Согласны на неофициальное?
– Давайте, – сказал Меерхоф.
Траск кивнул.
Уистлер виновато покосился на гроссмейстера.
– Один дурак может задать столько вопросов, что…– сказал он и сипло прибавил: – Мультивак утверждает, будто происхождение анекдотов внеземное.
– Что вы несете? – возмутился Траск.
– Разве вы не слышите? Анекдоты, которые нас смешат, придуманы не людьми. Мультивак проанализировал всю полученную информацию, и она укладывается в рамки только одной гипотезы: какой то внеземной интеллект сочинил все анекдоты и заложил их в умы избранных людей. Происходило это в заданное время, в заданных местах, и ни один человек не сознавал, что он первый рассказывает какой то анекдот. Все последующие анекдоты представляют собой лишь незначительные вариации и переделки тех великих подлинников.
Лицо Меерхофа разрумянилось, глаза сверкнули торжеством, какое доступно лишь гроссмейстеру, когда он – в который раз! – задает удачный вопрос.
– Все авторы комедий, – заявил он, – приспосабливают старые остроты для новых целей. Это давно известно. Ответ сходится.
– Но почему? – удивился Траск. – Зачем было сочинять анекдоты?
– Мультивак утверждает, – ответил Уистлер, – что все сведения укладываются в рамки единственной гипотезы: анекдоты служат пособием для изучения людской психологии. Исследуя психологию крыс, мы заставляем крысу искать выход из лабиринта. Она не знает, зачем это делается, и никогда не узнает, даже если бы осознала происходящее, на что она не способна. Внеземной разум исследует людскую психологию, наблюдая индивидуальные реакции на тщательно отработанные анекдоты. Люди реагируют каждый по своему… Надо полагать, по отношению к нам этот внеземной разум – то же самое, что мы по отношению к крысам. – Он поежился.
Траск, вытаращив глаза, пролепетал:
– Гроссмейстер говорит, что человек – единственное животное, обладающее чувством юмора. Значит, чувством юмора нас наделили извне.
– А юмор, порожденный самими людьми, не вызывает у нас смеха. Я имею в виду каламбуры, – возбужденно подхватил Меерхоф.
– Вероятно, внеземной разум во избежание путаницы гасит реакцию на спонтанные шутки.
– Да ну, о господи, будет вам, неужели хоть один из вас этому верит?
– во внезапном смятении воскликнул Траск. Старший аналитик посмотрел на него холодно.
– Так утверждает Мультивак. Пока больше ничего нельзя прибавить. Он выявил подлинных остряков вселенной, а если мы хотим узнать больше, дело надо расследовать. – И шепотом прибавил: – Если кто нибудь дерзнет его расследовать.
– Я ведь предлагал два вопроса, – неожиданно сказал гроссмейстер Меерхоф. – Пока что Мультивак ответил только на первый. По моему, он располагает достаточно полной информацией, чтобы ответить и на второй.
Уистлер пожал плечами. Он казался сломленным человеком.
– Если гроссмейстер считает, что информация полная, – сказал он, – то можно головой ручаться. Какой там второй вопрос?
– Я спросил: «Что произойдет, если человечество узнает, какой ответ получен на мой первый вопрос?»
– А почему вы это спросили? – осведомился Траск.
– Просто чувствовал, что надо спросить, – пояснил Меерхоф.
– Безумие. Сплошное безумие, – сказал Траск и отвернулся. Он и сам ощущал, как диаметрально изменились позиции его и Уистлера. Теперь Траск обвинял всех в безумии.
Он закрыл глаза. Можно обвинять в безумии кого угодно, но за пятьдесят лет еще никто не усомнился в непогрешимости содружества гроссмейстер – Мультивак без того, чтобы сомнения тут же развеялись.
Уистлер работал в молчании, стиснув зубы. Он снова заставил Мультивака и подсобные машины проделать сложнейшие операции. Еще через час он хрипло рассмеялся:
– Тифозный бред!
– Какой ответ? – спросил Меерхоф. – Меня интересуют комментарии Мультивака, а не ваши.
– Ладно. Получайте. Мультивак утверждает, что, как только хоть одному человеку откроется правда о таком методе психологического анализа людского разума, этот метод лишится объективной ценности и станет бесполезен для внеземных сил, которые сейчас им пользуются.
– Надо понимать, прекратится снабжение человечества анекдотами? – еле слышно спросил Траск. – Или вас надо понимать как нибудь иначе?
– Конец анекдотам, – объявил Уистлер. – Отныне! Мультивак утверждает: отныне! Отныне эксперимент прекращается! Будет разработан новый метод.
Все уставились друг на друга. Текли минуты.
Меерхоф медленно проговорил:
– Мультивак прав.
– Знаю, – измученно отозвался Уистлер.
Даже Траск прошептал:
– Да. Наверное.
Не кто иной, как Меерхоф, призванный остряк Меерхоф, привел решающий довод. Он сказал:
– Ничего не осталось, знаете ли, ничего. Я уже пять минут стараюсь, но не могу вспомнить ни одного анекдота, ни единого! А если я вычитаю анекдот в книге, то не засмеюсь. Наверняка.
– Исчез дар юмора, – тоскливо заметил Траск. – Ни один человек больше не засмеется.
Все трое сидели с широко раскрытыми глазами, чувствуя, как мир сжимается до размеров крысиной клетки, откуда вынули лабиринт, чтобы вместо него поставить нечто другое, неведомое.
Последний вопрос
Впервые последний вопрос был задан наполовину в шутку 21 мая 2061 года, когда человечество вступило в Новую Эру, полностью овладев энергией своего светила. Вопрос возник в результате пятидолларового пари, заключенного между коктейлями. Дело обстояло так.
Александр Аделл и Бертран Лупов входили в свиту Мультивака и были его верными и преданными слугами. Они знали (насколько может знать человек), что скрывается за холодным, мерцающим ликом этого гигантского компьютера, ликом, протянувшимся целые мили. Они имели по крайней мере туманное представление об общем плане всех этих целей и реле, образующих сооружение настолько сложное, что даже уже минули времена, когда один человек мог держать в голове его целостный образ.
Мультивак был машиной самоорганизующейся и самообучающейся. Так и должно быть, ибо не существует человека, который смог бы обучать и организовывать его с надлежащей точностью и быстротой. Так что к мыслительным процессам Мультивака Лупов и Аделл имели отношение весьма косвенное. Но то, что им поручено было делать, они выполняли со рвением. Они скармливали Мультиваку информацию, приспосабливали данные и вопросы к его внутреннему языку и расшифровывали выдаваемые ответы. Определенно, они (как и многие другие их коллеги) имели полное право на отблеск сияющего ореола славы Мультивака.
Десятилетиями Мультивак помогал людям конструировать ракеты и рассчитывать траектории, по которым человечество смогло достичь Луны, Марса и Венеры. Но затем Земля истощила свои ресурсы и не могла уже позволить себе роскошь космических перелетов. Для длительных перелетов нужно было много энергии, и хотя Земля научилась тратить свой уголь и свой уран с большой эффективностью, запасы и того и другого были ограничены и весьма скромны. Совершенствуясь в процессе самообучения, Мультивак смог наконец найти решение этой задачи и удовлетворить фундаментальную потребность человечества в энергии. 21 мая 2061 года то, что считалось до этого теорией, стало свершившимся фактом.
Земля научилась запасать, транспортировать и использовать прямую солнечную энергию во всепланетном масштабе. Она отказалась от ядерных и тепловых электростанций и подключилась к кольцу маленьких, не более мили в диаметре, гелиостанций, вращающихся вокруг Земли на половинном расстоянии до Луны. Неделя – срок недостаточный для того, чтобы улеглись страсти и всеобщее ликование вокруг столь знаменательного события, и Аделл с Луповым были вынуждены просто напросто сбежать со своего поста, утомленные вниманием общественности, чтобы встретиться в укромном уголке. Там, где на них никто не стал бы пялиться – в пустой подземной камере, за стенами которой тянулись мили проводов, заменяющих телу Мультивака нервы. Мультивак за свое изобретение также заслужил отпуск, и его служители полностью разделяли это мнение. Естественно, у них и в помине не было намерения его тревожить.
Они прихватили с собой бутылку виски, и единственным желанием обоих было расслабиться в ленивой, неспешной беседе.
– Если вдуматься, то это действительно поражает, – сказал Аделл.
На его широком лице лежала печать усталости, и он тянул свою дозу через соломинку, задумчиво скосив глаза на кружащиеся в бокале кубики льда.
– Вся энергия вокруг нас теперь наша. Ее достаточно, чтобы в мгновение ока превратить Землю в расплавленный шар, и все равно ее останется еще столько, что убыль никто и не заметит. Вся энергия, какую мы может только использовать, – наша! Отныне и присно и во веки веков!
Лупов покачал головой. Он имел обыкновение так поступать, когда хотел возразить, а сейчас он именно и собирался возражать, хотя бы по той причине, что была его очередь идти за порцией льда.
– Отнюдь не во веки веков, – возразил он.
– Нет, именно на целую вечность. Пока Солнце не погаснет.
– Это не вечность. Это вполне определенный конечный срок.
– Ну, хорошо. Миллиарды и миллиарды лет. Возможно, 20 миллиардов. Это тебя устраивает?
Лупов запустил пятерню в шевелюру, как бы удостоверяясь, что он все все реально существует, сидит и тянет свой коктейль.
– 20 миллиардов лет это еще не вечность.
– Да, но на наш век хватит, не так ли?
– На наш век хватило бы и угля с ураном.
– Ну, хорошо. Зато теперь мы можем построить индивидуальный корабль для путешествий по солнечной системе и миллионы раз сгонять на нем до Луны и обратно, и не заботиться о заправке горючим. Этого на угле и уране не добьешься. Спроси у Мультивака, если мне не веришь.
– Зачем мне у нет спрашивать, я и сам знаю.
– Тогда прекрати ставить под сомнение достижение Мультивака, – уже заводясь сказал Аделл, – он сделал великое дело!
– А кто это отрицает? Я только хочу сказать, что Солнце – не вечно. И ничего, кроме этого. Нам гарантировано, скажем, 20 миллионов лет, а дальше что?
Лупов ткнул в собеседника не вполне уверенным жестом.
– И не рассказывай мне сказки о том, что мы переберемся к другому солнцу.
Пару минут они молчали. Аделл неспешно прикладывался к бокалу. Лупов сидел с закрытыми глазами. Они расслаблялись.
Затем Лупов резко открыл глаза.
– Ты, наверное, думаешь, что мы полетим к другому солнцу, когда с нашим будет покончено?
– Я ни о чем не думаю.
– Думаешь. Вся беда у тебя в том, что ты не силен в логике. Ты похож на парня, не помню из какого рассказа. Он попал под проливной дождь и спрятался от него в роще. Встал под дерево и стоял, ни о чем не заботясь, поскольку считал, что как только крона намокнет и начнет протекать, то он сможет перейти под другое дерево…
– Я уже все понял, – ответил Аделл. – Не ори. Когда солнце погаснет, других звезд уже тоже не будет.
– Вот именно, – пробормотал Лупов. – Все звезды родились в одном космическом взрыве, каков он там ни был, и кончить свой путь они должны практически одновременно. То есть, по космическим масштабам. Конечно, одни погаснут раньше, другие позже. Я полагаю, красные гиганты не протянут и сотни миллионов лет. Солнце, допустим, просуществует 20 миллиардов лет, а карлики, на радость нам, возможно, продержатся еще сотню миллиардов. Но возьмем биллион лет и что увидим – Мрак, максимальный уровень энтропии, тепловая смерть.
– Я знаю все про энтропию, – горько сказал Аделл.
– Верю, черт тебя подери!
– Я знаю не меньше тебя!
– Тогда ты должен знать, что в один прекрасный день все сгинет!
– А кто спорит, что нет?
– Ты споришь, доходяга несчастный. Ты сказал, что теперь у нас энергии столько, что хватит на веки вечные. Ты так и сказал – «во веки веков».
Теперь настал черед Аделла не соглашаться.
– А мы со временем что нибудь придумаем, чтобы все восстановить.
– Никогда.
– Почему? Когда нибудь.
– Никогда!
– Спроси Мультивака.
– Ты спроси. Предлагаю пари на пять долларов, что это невозможно.
Аделл был пьян уже настолько, что принял пари. В то же время он был еще достаточно трезв для того, чтобы составить необходимую последовательность символов и операторов, которая в переводе на человеческий язык была бы эквивалентна вопросу: «Сможет ли человечество снова заставить Солнце сиять, когда оно начнет умирать от старости?» Или, формулируя короче: «Как уменьшить энтропию в объеме всей Вселенной?»
Мультивак скушал вопрос и стал глух и нем. Огоньки на пультах и панелях перестали мигать, затихло привычное щелканье реле. Мультивак погрузился в глубокое раздумье. Затем, когда изрядно струхнувшие служители уже не могли дальше сдерживать дыхание, пульт ожил и на экране дисплея высветилась фраза:
ДАННЫХ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА.
– Пари не состоялось, – прошептал Лупов.
Они быстро допили остатки виски и убрались восвояси. Назавтра оба маялись от головной боли и общего недомогания и про эпизод с участием Мультивака не вспоминали.
Джеррод, Джерродина и Джерродетты 1 я и 2 я наблюдали звездную картину на видеоэкране. Переход через гиперпространство в своей вневременной фазе подходил к концу. Наконец однообразное мерцание, заменявшее звезды, уступило место одинокому яркому призрачному диску, доминирующему в центре экрана.
– Это Х 23, – сказал Джеррод не вполне твердо. Кисти его тонких рук были сцеплены за спиной, а пальцы побелели.
Обе девочки, маленькие Джерродетты, впервые в жизни совершили путешествие через гиперпространство и впервые ощутили характерное, странное чувство выворачиваемого наизнанку сознания. Они разразились бессмысленным хихиканьем и принялись гоняться друг за дружкой вокруг своей матери.
– Мы достигли Х 23, мы достигли Х 23…
– Тише, дети, – строго сказала Джерродина. – Ты уверен, Джеррод?
– А какие тут могут быть сомнения? – спросил Джеррод, непроизвольно взглянув на бесформенный металлический наплыв под самым потолком. Он проходил по потолку на всю длину отсека и шел дальше сквозь переборку и через другие отсеки по всему кораблю.
Джеррод мало что знал про эту металлическую штуковину, кроме того, что она называется Микровак; что ей можно задавать любые вопросы, которые только придут в голову; что она ведет корабль к заранее намеченной цели, контролирует поступление энергии из Субгалактических Силовых станций и рассчитывает прыжки через гиперпространство.
На долю самого Джеррода и его семьи оставалось только пассивное наблюдение да ожидание прибытия к цели. В комфортабельных каютах корабля этот процесс был не в тягость.
Кто то когда то говорил Джерроду, что «ак» в конце слова Микровак на древнеанглийском языке означает сокращение слов «аналоговый компьютер», но и эта информация, в сущности, была ему не нужна.
Глаза Джерродины увлажнились.
– Ничего не могу с собой поделать. Так странно покидать нашу Землю.
– Боже мой, но отчего? – воскликнул Джеррод. – Там у нас ничего не осталось. А на Х 23 у нас будет все. Мы будем там не одиноки и нам не нужно даже будет разыгрывать из себя пионеров. На планете уже живет миллион человек. И я думаю, что уже наши праправнуки тоже отправятся подыскивать себе новый мир, потому что этот к тому времени переполнится.
Помолчав, он добавил:
– Все таки здорово придумано! Компьютеры рассчитывают новые маршруты по мере возрастания человечества.
– Я знаю, знаю, – сказала Джерродина несчастным тоном. – Наш Микровак – самый лучший Микровак; лучший в мире Микровак!
– Я тоже так думаю, – сказал Джеррод и потрепал ее за волосы.
Это действительно было так, и Джеррод был рад иметь собственный Микровак и рад, что он родился именно в это благословенное время и ни в какое другое. Во времена его предков единственными компьютерами были гигантские электронные машины, занимающие площадь в добрую сотню квадратных миль. На каждой планете имелся один такой. Их называли Планетными АКами. Они постоянно увеличивались в размерах, на протяжении тысячелетий, а затем, наконец, настало время усовершенствования, развития вглубь. Сначала вместо транзисторов появились интегральные схемы, затем – молекулярные пленки, после – кристаллы, даже самый большой планетный АК мог теперь уместиться в трюме космического корабля.
Джеррод почувствовал гордость, которую всегда испытывал при мысли, что его личный Микровак гораздо сложнее, надежнее и совершеннее, чем даже древний Мультивак, который по преданиям приручил Солнце и разрешил проблему передвижения в гиперпространстве, открыв тем самым путь к звездам.
– Так много звезд, так много планет, – вздохнула Джерродина, занятая своими мыслями. – И, наверное, люди вечно будут переселяться с планеты на планету, как и сейчас.
– Не вечно, – сказал Джеррод с улыбкой. – Все это, хотя и не скоро, но кончится. Через много миллиардов лет. Даже звезды умирают, ты ведь знаешь – энтропия возрастает.
– Папочка, что такое энтропия? – заинтересовалась Джерродетта 2 я.
– Энтропия, крошка, это слово, чтобы обозначать, сколько распада во Вселенной. Все в мире разрушается и разламывается, как твой любимый ходячий говорящий робот. Помнишь его?
– А если вставить в него новый силовой блок – ты ведь тогда оживил его так?
– Звезды и есть силовые блоки. Если они исчезнут, другой энергии у нас уже не будет.
Джерродетта 1 я внезапно заревела.
– Не хочу у у… Не позволяй звездам умирать!
– Смотри, до чего ты довел ребенка своими дурацкими разговорами, – раздраженно произнесла мать.
– Почем я мог знать, что это их так испугает, – прошептал Джеррод. (Джерродетта 2 я тоже присоединилась к хныканью сестры).
– Спроси и Микровака, – канючила Джерродетта 1 я, – спроси у него, как снова включить звезды!
– Лучше спроси, – сказала Джерродина. – Это их успокоит.
Джеррод пожал плечами.
– Сейчас, сейчас, малышки. Папочка спросит Микровака. Не бойтесь, он на все знает ответ.
Он задал Микроваку вопрос, добавив быстрым шепотом:
– Ответ напечатать, вслух не произносить!
– Ну, что я вам говорил! Микровак отвечает, что когда настанет время, он обо всем позаботится! Так что нечего заранее беспокоиться.
Джерродина сказала:
– А теперь, дети, пора спать. Скоро приедем в свой новый дом.
Джеррод, прежде чем выбросить целлопластовую карточку в утилизатор, еще раз пробежал глазами напечатанную на ней фразу:
ДАННЫХ ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА НЕДОСТАТОЧНО.
Он пожал плечами и взглянул на видеоэкран. До Х 23 было уже рукой подать.
ВЙ 23Х из Ламета посмотрел в глубину трехмерной мелкомасштабной сферокарты Галактики и сказал:
– А тебе не кажется, что мы преувеличиваем значение вопроса? Над нами будут смеяться…
МК 17Й из Никрона покачал головой.
– Не думаю. Всем известно, что Галактика переполнится в ближайшие пять лет, если наша экспансия будет продолжаться такими темпами.
Оба выглядели на двадцать лет, оба были высоки и великолепно сложены.
– Все же, – сказал ВЙ 23Х, – я не решусь представить пессимистический рапорт на рассмотрение Галактического Совета.
– А я не соглашусь ни на какой другой рапорт. Расшевелим их малость. Как надо их расшевелить!
ВЙ 23Х вздохнул:
– Пространство бесконечно. Существуют сотни миллиардов галактик, пригодных для населения. А, может, и больше.
– Сотни миллиардов – это не бесконечное множество, и это количество все время сокращается. Смотри! 20000 лет назад человечество впервые разрешило проблему использования энергии и спустя пару веков стали возможны межзвездные путешествия. Чтобы заселить один маленький мир, человеку понадобился миллион лет, а чтобы заселить остальную часть Галактики – всего лишь 15000 лет. Сейчас население удваивается каждые 10 лет…
ВЙ 23Х перебил.
– За это мы должны благодарить подаренное нам бессмертие.
– Прекрасно. Бессмертие – это реальность, и мы должны с ним считаться. Я согласен, что самое бессмысленное имеет, как оказалось, и теневые стороны. Галактический АК решил для нас множество проблем, но, решив проблему старения и смерти, он зачеркнул тем самым все свои прежние достижения.
– Тем не менее, мне почему то кажется, что, например, ты от своего бессмертия не откажешься.
– И не подумаю, – отрезал МК 17Й, но тут же смягчил голос: – По крайней мере, пока. Хотя я уже достаточно пожил. Тебе сколько лет?
– 223. А тебе?
– Мне нет еще и двухсот. Но вернемся к делу. Каждые десять лет население удваивается. Заполнив свою галактику, мы заполним следующую уже за десять лет. В следующее десятилетие мы заполним еще две. В следующие десять лет – еще четыре. За сто лет мы займем уже тысячу галактик. За тысячу лет – миллион. За десять тысяч – всю известную часть Вселенной. Что дальше?
ВЙ 2ЗХ сказал:
– Добавь сюда еще и проблему транспортировки. Сколько это понадобится энергии, чтобы переместить такое количество людей из одной галактики в другую?
– Хороший вопрос! Уже сейчас человечество за год потребляет энергию двух звезд.
– И по большей части тратит ее впустую. А с другой стороны, в одной только нашей Галактике ежегодно теряется на излучение энергия тысячи солнц. А мы используем только два.
Звук, донесшийся из терминала, заставил их замолчать. Из маленькой, лежащей на столе коробочки прозвучала фраза, произнесенная прелестным высоким голосом. Галактическая АК сказала:
ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ.
– Ясно? – сказал ВЙ 23Х.
После чего оба продолжили обсуждение отчета, который им надлежало представлять в Галактический Совет.
Зи Прим со слабым интересом оценивал новую галактику, прослеживая взглядом бессчетные звездные рукава и прикидывая, сколько энергии содержат ее звезды. Эту галактику он видел впервые. Увидит ли он когда нибудь все их? Галактик ведь так много и каждая несет в себе часть человечества. Правда, теперь этот человеческий груз был почти что мертвым грузом. Там, на мириадах планет, вращающихся вокруг мириад звезд, принадлежащих мириадам галактик, находятся только тела. Истинную сущность человека ныне чаще всего можно встретить здесь, в пространстве.
Конечно же, имеется в виду только разум! Бессмертные тела остаются на своих планетах в летаргии, длящейся целые эпохи. Временами они пробуждаются для активной деятельности в материальном мире, но это случается все реже и реже. Новые индивидуальности уже не появляются, но для чудовищно, невообразимо разросшегося человечества это не имеет никакого значения. Да и места во Вселенной для новых индивидов осталось уже совсем немного.
Зи Прима отвлекли от его размышлений тонкие ментальные щупальца другого разума, соприкоснувшегося с его собственным.
– Я – Зи Прим, – сказал Зи Прим, – а ты?
– Я – Ди Суб Ван. Из какой ты галактики?
– Мы зовем ее просто Галактика. А вы свою?
– Мы тоже. Все зовут свою галактику просто Галактикой и больше никак. Почему бы и нет?
– Верно. Тем более, что все они одинаковы.
– Не все. Одна отличается от других. Именно в ней зародилось человечество, чтобы потом рассеяться по другим галактикам.
Зи Прим спросил:
– И что же это за галактика?
– Не скажу. Метагалактический АК должен знать.
– Спроси! Что то меня это заинтересовало.
Зи Прим расширил свое восприятие, так что все галактики съежились и превратились в искорки, разбросанные на более обширном фоне. Сотни миллиардов искорок – сотни миллиардов галактик. И каждая со своим грузом бессмертных существ, со своим грузом разумов. Все это медленно проплывало в пространстве. Одна из них в туманном и далеком прошлом была единственной галактикой, заселенной людьми.
Зи Прим сгорал от любопытства ее увидеть, и он сделал вызов:
– Вопрос Метагалактическому АКу – из какой галактики произошло человечество.
Метагалактический АК принял запрос, ибо на каждой планете и во всех пространствах его рецепторы были наготове и каждый рецептор вел через гиперпространство к некой неизвестной точке, где отстраненно от всего обитал Метагалактический АК.
Зи Прим знал только одного человека, который смог ментальным усилием нащупать мыслительный образ Метагалактического АКа, и этот человек рассказывал только про сияющую сферу примерно двух футов в диаметре. Отыскать ее среди звезд и галактик было задачей, перед которой бледнела пресловутая иголка в стоге сена.
Зи Прим тогда еще переспросил недоверчиво:
– И это Метагалактический АК? Таких размеров?
– А большая его часть, – последовал ответ, – находится в гиперпространстве. И какую форму он там принимает и какие размеры имеет, этого никто вообразить не может.
Этого действительно никто не мог вообразить, поскольку давно уже миновали дни, когда в создании любой, наугад взятой, части Метагалактического АКа принимали участие люди. Сейчас каждый очередной Метагалактический АК сам конструировал и создавал своего преемника. Каждый из них, за время своего миллионолетнего существования, накапливал необходимые данные, чтобы построить лучшего, более сложного и мощного, более тонко организованного наследника, в которого он вкладывал, в частности, всю свою память и свою индивидуальность.
Метагалактический АК прервал рассеянные мысли Зи Прима, но не словами, а действием. Зи Прим ментально был препровожден в туманное море галактик, и одна из них приблизилась и рассыпалась на скопище звезд.
Из бесконечного удаления пришла бесконечно ясная мысль:
ЭТО РОДНАЯ ГАЛАКТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Но она была точно такая же, как и все остальные, и Зи Прим подавил разочарование.
Ди Суб Ван, разум которого сопровождал Зи Прима, внезапно спросил:
– И одна из этих звезд – родная звезда человека?
Метагалактический АК ответил: – РОДНАЯ ЗВЕЗДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПРЕВРАТИЛАСЬ В НОВУЮ. ПОСЛЕ ВСПЫШКИ СТАЛА БЕЛЫМ КАРЛИКОМ.
– И что же – люди, обитающие на этой звезде, погибли? – спросил Зи Прим, не подумав.
Метагалактический АК сказал:
– КАК ВСЕГДА В АНАЛОГИЧНЫХ СЛУЧАЯХ, ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛ ЛЮДЕЙ БЫЛ ВОВРЕМЯ СКОНСТРУИРОВАН И ПОСТРОЕН НОВЫЙ МИР.
– Да, конечно, – подумал Зи Прим, но чувство потери не покидало его. Он перестал концентрировать свой разум на родной галактике человечества и позволил ей затеряться среди сверкания других галактик. Он вернулся назад. Ему больше не хотелось видеть эту галактику.
Ди Суб Ван спросил:
– Что случилось?
– Звезды умирают. Наша родная звезда уже умерла.
– Они все должны умереть. Почему бы и нет?
– Но когда иссякнут все запасы энергии, наши тела в конце концов тоже умрут, а с ними и ты, и я, и все остальные.
– Это случится еще через миллиарды лет.
– А я не хочу, чтобы это вообще случилось, даже через миллиарды лет. Метагалактический АК! Как предотвратить гибель звезд?
Ди Суб Ван воскликнул в изумлении:
– Ты спрашиваешь, как обратить энтропийные процессы?
А Метагалактический АК ответил:
ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ.
Разум Зи Прима вернулся в собственную галактику. Он больше не вспоминал Ди Суб Вана, чье тело, возможно, находилось за биллионы световых лет от его собственного, а возможно, обитало на соседней планете. Все это не имело никакого значения.
Удрученный Зи Прим начал собирать межзвездный водород, из которого решил смастерить свою собственную небольшую звезду. Конечно, и она когда нибудь умрет, но, по крайней мере, она будет сделана им самим.
ЧЕЛОВЕК советовался сам с собой, поскольку ментально он существовал в единственном числе. Он состоял из неисчислимого количества тел, разбросанных по мириадам планет в мириадах галактик, и тела эти пребывали в вечной летаргии. О них заботились бессмертные и неуязвимые автоматы, а разумы, когда то связанные с этими телами, давно уже добровольно слились в единое целое, и теперь ничто уже не могло их разъединить.
ЧЕЛОВЕК сказал:
– Вселенная умирает.
ЧЕЛОВЕК окинул взором затянутые дымкой, еле светящиеся галактики. Гигантские звезды, моты и транжиры, сгинули давным давно, в самом туманном тумане далекого прошлого. Почти все оставшиеся звезды были белыми карликами, но и они приближались к своему концу.
Из межзвездного газа и пыли, правда, возникали новые звезды. Некоторые естественным путем, некоторые были созданы человеком. Но и они тоже давно погибли. Можно было, конечно, сталкивать между собой белые карлики и с помощью высвободившейся таким образом энергии создавать новые звезды. Но на одну порядочную звезду нужно потратить около тысячи карликов и сами они, в конце концов, тоже были обречены на гибель. Да и карликов тоже не бесчисленное число.
ЧЕЛОВЕК сказал:
– Как подсчитал Вселенский АК, энергии, если аккуратно ее расходовать, хватит еще на миллиарды лет.
– Но даже так, – сказал ЧЕЛОВЕК, – рано или поздно все равно все кончится. Экономь не экономь, а однажды энергия сойдет на нет. Энтропия достигнет максимума, и это сохранится вечно.
ЧЕЛОВЕК предположил:
– А нельзя ли обратить процесс возрастания энтропии? Ну ка, спроси у Вселенского АКа.
Вселенский АК окружал его со всех сторон, но не в пространстве. В пространстве не было ни единой его части. Он находился в гиперпространстве и был сделан из чего то, что не было ни материей, ни энергией. Вопрос о его размерах и природе давным давно стал бессмысленным в любой терминологии, какую только мог вообразить себе ЧЕЛОВЕК.
– Вселенский АК, – сказал ЧЕЛОВЕК, – каким образом можно обратить стрелу энтропии?
Вселенский АК ответил:
ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА ВСЕ ЕЩЕ НЕ ХВАТАЕТ ДАННЫХ.
ЧЕЛОВЕК сказал:
– Собери дополнительную информацию.
Вселенский АК ответил:
Я БУДУ ЭТО ДЕЛАТЬ, КАК УЖЕ ДЕЛАЛ СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ. МНЕ И МОИМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ ЭТОТ ВОПРОС ЗАДАВАЛИ НЕОДНОКРАТНО. ВСЕ ОТОБРАННЫЕ МНОЮ ДАННЫЕ НЕДОСТАТОЧНЫ.
– Настанет ли время, – спросил ЧЕЛОВЕК, – когда данных будет достаточно, или же эта проблема не имеет решения ни при каких условиях?
– ПРОБЛЕМ, НЕ РАЗРЕШИМЫХ НИ ПРИ КАКИХ МЫСЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
– Когда же у тебя будет достаточно информации, чтобы ответить на мой вопрос?
– ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА НА ЭТОТ ВОПРОС ТОЖЕ НЕ ХВАТАЕТ ДАННЫХ.
– Ты будешь продолжать работу? – спросил ЧЕЛОВЕК.
– ДА, – ответил Вселенский АК.
ЧЕЛОВЕК сказал:
– Мы подождем.
Звезды и галактики умирали одна за другой, и черное пространство было заполнено их выгоревшими трупами. Угасание длилось десять биллионов лет.
ЧЕЛОВЕК, один за другим, растворился в АКе, слился с ним. Каждое его физическое тело, умирая, теряло свою духовную индивидуальность, так что это был выигрыш, а не потеря.
Последний разум ЧЕЛОВЕКА немного задержался перед слиянием, оглядывая пространство вокруг себя, пространство, не содержащее ничего, кроме останков последней темной звезды и массы невероятно истонченной, распыленной материи, временами возбуждаемой еще не перешедшей в тепло энергией. Это была уже агония, частота таких вспышек энергии асимптотически стремилась к абсолютному нулю.
ЧЕЛОВЕК спросил:
– АК, что это – конец? Нельзя ли этот хаос снова превратить во Вселенную? Можно ли это сделать?
АК ответил:
ДЛЯ ОСМЫСЛЕННОГО ОТВЕТА ВСЕ ТАК ЖЕ НЕ ХВАТАЕТ ДАННЫХ.
Разум последнего ЧЕЛОВЕКА слился с АКом, и теперь существовал только он один, да и то в гиперпространстве.
Материя и энергия исчезли, а вместе с ними пространство и время. Даже АК существовал только лишь благодаря одному последнему вопросу, на который он так и не смог ответить. Так же, как и никто в течение десяти биллионов лет не смог ответить на этот проклятый вопрос, впервые заданный полупьяным техником компьютеру, отстоявшему в своем развитии от Вселенского АКа, как человек отстоял от ЧЕЛОВЕКА.
Все остальные вопросы были давным давно разрешены, но пока не будет получен ответ на этот последний, АК не мог, не имел права облегченно вздохнуть и уйти в небытие.
Все необходимые данные были уже собраны. Больше просто нечего было уже собирать.
Но эту собранную информацию надо было еще рассортировать, проанализировать и привести в систему.
На это ушел некоторый безвременной интервал.
И наконец АК узнал, как обратить направление стрелы энтропии.
Но уже не оставалось ни одного человека, которому АК мог бы выдать полученный ответ. Впрочем, неважно. Ответ был настолько всеобъемлющим, что во время его наглядной демонстрации это затруднение тоже будет разрешено.
В течение еще одного безвременного интервала АК размышлял, как лучше всего организовать дело. Потом аккуратно составил программу.
Сознание АКа охватило все, что некогда было вселенной, и сосредоточилось на том, что сейчас было хаосом. Шаг за шагом все будет сделано.
И АК сказал:
– ДА БУДЕТ СВЕТ!
И был свет…
Какое дело пчеле?
Корабль возник как металлический скелет. Затем снаружи его постепенно покрыла сверкающая кожа, а внутри расположились жизнеобеспечивающие органы странных форм.
Из всех, кто принимал участие в его создании (за одним исключением), Торнтон Хаммер физически делал меньше остальных. Возможно, именно поэтому он пользовался наибольшим уважением. Его областью были математические формулы, проходившие основной линией на чертежах, а те в свою очередь послужили основой объединения всяких масс и различных форм энергии, которые воплотились в корабль.
Теперь Хаммер угрюмо смотрел сквозь плотно сидевшие на носу очки. Их стекла ловили свет флюоресцентных трубок наверху и отражали его прожекторными лучами. Теодор Ленгел, инспектор отдела кадров корпорации, оплачивающей постройку, встал рядом с ним и сказал, тыча указательным пальцем:
– Вон тот! Вон тот человек.
Хаммер прищурился:
– Вы говорите про Кейна?
– В зеленом комбинезоне. С гаечным ключом.
– Ну да, Кейн. Что вы имеете против него?
– Я хочу узнать, чем он занимается. Он идиот! – У Ленгела было круглое пухлое лицо, и его отвисшие щеки затряслись.
Хаммер перевел на него взгляд. Каждый дюйм его сухопарой фигуры дышал негодованием.
– Вы его беспокоили?
– Беспокоил?! Я с ним разговаривал. Это моя обязанность: разговаривать с людьми, выяснять их точку зрения, получать информацию, на основе которой разрабатывают кампании для поднятия производительности.
– И чем же вам помешал Кейн?
– Он наглец. Я спросил его, что он чувствует, принимая участие в строительстве корабля, который полетит на Луну. Я немножко поговорил о том, что корабль откроет путь к звездам. Ну, может быть, я несколько увлекся, произнес настоящую речь, как вдруг он грубо повернулся ко мне спиной и хотел уйти. Я окликнул его: "Куда вы идете?" А он сказал: "Мне такая болтовня надоела. Иду посмотреть на звезды".
Хаммер кивнул:
– Ну да, Кейн любит смотреть на звезды.
– Но был же полдень! Этот человек – идиот. Я потом наблюдал за ним. Он вообще не работает.
– Я знаю.
– Так почему его не уволили?
С еле сдерживаемой яростью Хаммер процедил:
– Потому что он мне нужен здесь. Потому что он мой талисман.
– Талисман? – с недоумением повторил Ленгел. – Что это значит, черт побери?
– Это значит, что в его присутствии мне лучше думается. Когда он проходит мимо, сжимая свой чертов гаечный ключ, меня осеняют идеи. Это случалось уже три раза. Не знаю, как объяснить... И не интересуюсь объяснениями! Но так и есть.
– Вы шутите.
– Вовсе нет. А теперь оставьте меня в покое.
Кейн стоял там в своем зеленом комбинезоне, держа гаечный ключ. Смутно он сознавал, что корабль почти построен – не предназначенный для пилотируемого полета, но внутри достаточно пустого пространства, где может уместиться человек. Он знал это, как знал еще многое другое. Например, что надо держаться подальше от других людей, например, что надо всегда ходить с гаечным ключом, пока люди не привыкнут, что он всегда ходит с гаечным ключом, и перестанут замечать этот ключ. Защитная окраска, в сущности, слагается из мелочей... вроде гаечного ключа, который всегда у тебя в руке.
Кейн был полон побуждений, которые не всегда понимал. Например, стремление смотреть на звезды. Вначале, много лет назад, он просто смотрел на звезды с какой то неясной ноющей тоской. Но мало помалу его внимание сосредоточилось на определенном участке неба, а затем на одной только точке. Он не знал почему. В этом месте не было звезд. Там не на что было смотреть.
В конце весны и летом это место находилось высоко в ночном небе, и порой Кейн смотрел на него всю ночь напролет, пока оно не исчезало за юго западным горизонтом. А в другие времена года он смотрел на это место днем.
С этим местом была связана какая то мысль, которую ему никак не удавалось нащупать. С годами она крепла, все больше приближалась к поверхности и уже, казалось, должна была найти себе выражение. Но все таки оставалась смутной.
Кейн беспокойно переступил с ноги на ногу и подошел к кораблю. Почти завершенному, почти готовому к полету. Все было точно подогнано одно к другому. Почти.
Ибо внутри у самого носа оставалось пустое пространство чуть больше человеческого тела. И к этому пространству вел проход, чуть шире человеческого тела. Завтра проход будет заполнен последними деталями, но перед тем надо заполнить пространство. Только совсем иным, чем планировали они.
Кейн подошел еще ближе, но никто не обратил на него внимания. Все давно привыкли к его присутствию.
Предстояло подняться по металлической лестнице и пройти по мостику, чтобы проникнуть в последний не загерметизированный люк. Кейн знал про этот люк так, словно выстроил весь корабль собственными руками. Он поднялся по лестнице, прошел по мостику. Там никого не было...
Он ошибся. Там оказался один человек, который резко спросил:
– Что ты тут делаешь?
Кейн выпрямился, его рассеянные глаза уставились на говорившего. Он поднял гаечный ключ и несильно ударил человека по голове. Тот упал.
Кейн с полным равнодушием оставил его лежать. Сознание к нему скоро вернется, но не прежде, чем Кейн успеет забраться в люк. А придя в себя, человек не вспомнит ни Кейна, ни то, что упал без сознания. Просто из его жизни исчезнут пять минут, которых он никогда не хватится.
В потайном месте было темно и, разумеется, отсутствовала вентиляция, но Кейн не обращал на это никакого внимания. Он забрался туда с инстинктивной уверенностью и улегся, уютно свернувшись, словно в материнской утробе.
Через два часа они вмонтируют последние приборы, задраят люк и, сами того не зная, оставят на корабле Кейна – единственное существо из плоти и крови среди металла, керамики и горючего.
Кейн не боялся, что его обнаружат. Никто не знал о существовании его тайника. Он не значился в чертежах. Техники и строители не подозревали, что оставили свободное место в корпусе.
Кейн все устроил сам. Он не отдавал себе отчета в том, как именно сделал это. Но сделал. Он не раз замечал свое воздействие на людей, не понимая, как и почему воздействует на них. Взять, например, этого Хаммера, того, кто руководил постройкой и наиболее поддавался воздействию. Из всех смутных фигур, окружавших Кейна, он был наименее смутной. И порой Кейн четко сознавал его присутствие – когда проходил мимо него в своих неторопливых и неопределенных блужданиях по строительной площадке. Только это и требовалось – пройти мимо.
Кейн помнил, что так случалось и прежде. Особенно с теоретиками. Когда Лиза Мейтнер решила провести проверку на барий среди продуктов нейтронной бомбардировки урана, Кейн был рядом – никем не замеченный бродил по соседнему коридору.
Он сгребал опавшие листья и мусор в парке в 1904 году, когда мимо, размышляя, прошел молодой Эйнштейн. Внезапно Эйнштейн зашагал быстрее, словно подгоняемый неожиданной мыслью. Кейна словно током ударило.
Но как это делалось, он не знал. А паук знает архитектурные теории, когда начинает плести паутину?
Впрочем, истоки уходили глубже в прошлое. В тот вечер, когда молодой Ньютон смотрел на луну и в голове у него забрезжила некая мысль, Кейн был поблизости.
И еще глубже в прошлое.
Пейзаж Нью Мексико, обычно пустынный, был весь усеян человеческими муравьями, которые копошились возле металлической колонны, устремленной острием вверх. Она не походила на все предшествовавшие ей конструкции. Она достигнет Луны и обогнет ее, прежде чем вернуться обратно. Бесчисленные приборы сфотографируют Луну, измерят ее теплоотдачу, проверят радиоактивность и с помощью микроволн установят химический состав. Автоматически колонна выполнит почти всю программу, которую выполнил бы человеческий экипаж корабля. И полученная информация позволит в следующий раз отправить на Луну корабль с человеческим экипажем.
Но только в определенном смысле и этот первый имел на своем борту человека.
Возле стартовой площадки собрались представители разных правительств, разных промышленных компаний, разных общественных и экономических групп. Были там и телеоператоры, и журналисты.
При нулевом счете заработали двигатели, и корабль начал внушительный подъем.
Кейн словно бы откуда то слышал вой рассекаемого воздуха и чувствовал гнет ускорения. Он высвободил свое сознание, приподнял его и выдвинул вперед, оборвав прямую связь между ним и телом, чтобы не замечать боли и других неприятных ощущений.
Как сквозь туман он понимал, что его долгое путешествие близится к концу. Ему уже не надо будет принимать хитрые меры, чтобы люди не поняли, что он бессмертен. Ему уже не надо будет держаться незаметно, вечно скитаться, меняя имена и личности, манипулируя чужим сознанием.
Конечно, не все шло гладко. Например, возникали легенды о Вечном Жиде и Летучем Голландце... Но он уцелел. Его не разоблачили.
Он видел свое место в небе. Видел сквозь всю плотную массу корабля. Ну, не то чтобы "видел". Но более точного слова у него не находилось.
Впрочем, он не сомневался, что точное слово существует. Он не мог бы объяснить, как узнал хотя бы ничтожную часть того, что знал. Просто пока одно столетие сменялось другим, он постепенно обрел эти знания с уверенностью, которая не нуждалась в объяснениях.
Возник он как яйцо (или как нечто, для обозначения чего слово "яйцо" было наиболее подходящим), положенное на Земле еще до того, как бродячие охотники, которые позднее стали называться "людьми", построили города. Его родитель выбрал Землю с большим тщанием. Далеко не всякий мир был пригоден для такой цели.
Но какой мир подходит? Какие существуют критерии? Этого Кейн и сейчас не знал.
А разве оса наездник должна изучать арахнологию прежде, чем отыскать паука единственного подходящего для ее потомства вида и парализовать его укусом, сохраняя в нем жизнь?
В конце концов он вышел из яйца, принял облик человека, стал жить среди людей и обороняться от людей. И его единственной целью было заставить людей пойти путем, который завершится кораблем и тайником внутри корабля, с ним самим внутри тайника.
Потребовалось восемь тысяч лет усилий и разочарований. Теперь, когда корабль покинул атмосферу, место в небе стало более четким. Это был ключ, отпиравший сознание. Это был последний кусочек головоломки, завершающий картину.
В том месте поблескивали звезды, невидимые невооруженному человеческому глазу. Одна пылала особенно ярко, и все существо Кейна устремлялось к ней. Слово, которое столько времени зрело в нем, вырвалось наружу.
– Мой дом, – прошептал он.
Он знал? Изучает ли лосось картографию, чтобы найти верховье речки, где за несколько лет до этого он вышел из икринки? Завершился последний этап в медленном взрослении, которое потребовало восьми тысяч земных лет, и Кейн был уже не личинкой, а взрослой особью.
Взрослый Кейн вырвался из человеческой плоти, которая оберегала личинку, и вышел из корабля. Он устремился вперед с немыслимой скоростью – к своему дому, откуда когда нибудь он отправится блуждать по космосу, чтобы отложить яйцо на какую нибудь планету.
Он мчался через космос, не вспоминая о корабле, в котором остался пустой кокон. Он не думал о том, что гнал целый мир к овладению техникой и космическими полетами для того лишь, чтобы нечто, называющееся Кейном, могло стать взрослым и исполнить свое предназначение.
Какое дело пчеле до цветка, когда она кончает сосать нектар и улетает?
Световирши
Чтобы миссис Эвис Ларднер оказалась убийцей – в это просто невозможно было поверить. Кто угодно, только не она. Вдова астронавта великомученика, она занималась благотворительностью, коллекционировала произведения искусства, считалась потрясающе гостеприимной хозяйкой и, по общему признанию, талантливой художницей. К тому же это было добрейшее и милейшее существо на свете.
Муж ее, Уильям Дж. Ларднер, погиб, как известно, от радиации, когда он добровольно остался в космосе, чтобы дать возможность пассажирскому кораблю благополучно добраться до Пятой космической станции. Миссис Ларднер получила за мужа щедрую пенсию, которой весьма удачно распорядилась и в свои далеко еще не преклонные годы стала очень богатой женщиной.
Ее дом был настоящей выставкой музеем с небольшой, но тщательно подобранной коллекцией ювелирных изделий. Миссис Ларднер удалось раздобыть уникальные антикварные предметы самых разных культур человечества – все, что только можно украсить драгоценностями и превратить в шедевр прикладного искусства. Здесь были одни из первых наручных часов, сделанных в Америке, кинжал из Камбоджи, очки из Италии – каждый предмет, естественно, инкрустирован драгоценными камнями, и так далее, до бесконечности.
Коллекция, открытая для обозрения, не была застрахована, даже обычной системы охраны – и той не существовало. Впрочем, миссис Ларднер в ней и не нуждалась: огромный штат прислуги из роботов охранял выставленные сокровища с неусыпной бдительностью, неподкупной честностью и безупречной эффективностью.
Посетители знали о роботах, и никто никогда даже и не слыхал о попытках ограбления.
Но гвоздем программы, безусловно, была световая скульптура миссис Ларднер. Как ей удалось обнаружить в себе этот дар, – об этом тщетно гадали все гости, бывавшие на ее роскошных приемах. Каждый раз, когда дом миссис Ларднер открывался для гостей, в комнатах сияла новая симфония света; трехмерные извивы и фигуры, переливающиеся всеми цветами радуги, то светились чистым ровным светом, то вдруг вспыхивали хрустальным мерцанием, повергая приглашенных гостей в изумление и при этом выгодно оттеняя голубоватые волосы и мягкие черты лица хозяйки, что придавало им подлинное совершенство.
В основном, гости, конечно, приходили посмотреть световые скульптуры. Художница никогда не повторялась, всякий раз создавая оригинальные творения. Многие из приглашенных – те, что могли позволить себе такую роскошь, как световые компьютеры, – сами нередко баловались созданием скульптур, однако всем им было далеко до миссис Ларднер. Даже тем, кто считал себя профессиональным художником.
Сама же хозяйка проявляла очаровательную скромность. «Нет, нет, возражала она какому нибудь расчувствовавшемуся гостю, – я не назвала бы это „поэзией в свете“. Вы слишком добры ко мне. В лучшем случае это просто „световирши“». И все улыбались милой шутке художницы.
Миссис Ларднер создавала световые скульптуры только для собственных приемов, хотя ей не раз предлагали сделать их на заказ. «Это будет уже коммерциализацией», – неизменно отвечала она. Однако не возражала, если с ее произведений хотели снять голографические копии, которые становились постоянным украшением музеев всего мира. И никогда не брала за это денег.
«Я не возьму ни пенни, – говорила она, широко разводя руками. – Пусть ими любуются все кому не лень. В конце концов, мне то они больше не нужны». И это была чистая правда. Никогда в жизни она не повторяла своих скульптур.
Когда снимали голограммы, миссис Ларднер была сама любезность. Благожелательно наблюдая за каждым шагом работающих, она в любой момент готова была призвать на помощь своих роботов. «Пожалуйста, Кортни, – говорила она, если вас не затруднит, помогите им приладить лестницу».
Именно так она и выражалась: миссис Ларднер обращалась к роботам исключительно вежливо. Однажды, несколько лет назад, ее за это сурово отчитал какой то правительственный функционер из Управления «Роботс энд Мекэникл Мен».
– Так нельзя, – сказал он сердито. – Вы их просто портите. Роботы сконструированы таким образом, что они подчиняются приказам, и чем точнее приказ, тем быстрее они его выполняют. Когда же к ним обращаются с изысканной вежливостью, до них не сразу доходит, что это приказ, и они реагируют замедленно.
Миссис Ларднер вздернула аристократический подбородок.
– Я не требую от них скорости, – заявила она. – Мне нужна доброжелательность. Мои роботы любят меня.
Правительственный функционер хотел было объяснить, что роботы не способны любить, однако тут же увял под мягким, но полным укоризны взором почтенной дамы.
Ни для кого не секрет, что миссис Ларднер никогда не возвращала своих роботов на фабрику для регулировки. Позитронные мозги – чудовищно сложная штука, а потому, как правило, каждый десятый робот, сошедший с конвейера, нуждался в дополнительной настройке. Порой дефекты обнаруживались далеко не сразу, но «Ю. С. Роботс энд Мекэникл Мен Корпорейшн» никогда не отказывалась устранить их, притом совершенно бесплатно.
«Ну уж нет, – качала головой миссис Ларднер. – Коль скоро робот попал в мой дом и выполняет свои обязанности, он может позволить себе маленькие чудачества. Я не допущу, чтобы кто то копался у них в голове». Пытаться объяснить ей, что робот – всего навсего машина, оказывалось занятием совершенно бесполезным. «Такое умное создание не может быть просто машиной, упрямо твердила она. – Я обращаюсь с ними как с людьми».
Так оно и было на самом деле.
Она держала у себя даже Макса, абсолютно беспомощное существо, с трудом соображающее, чего от него хотят. Однако миссис Ларднер энергично отрицала этот очевидный факт. «Ничего подобного, – твердо говорила она. – Он прекрасно умеет принимать пальто и шляпы и развешивать их в гардеробной. Он может приносить и подавать мне разные вещи. Он вообще много чего умеет».
– Почему бы вам не отправить его на фабрику подрегулировать? – как то спросил ее один из приятелей.
– Это невозможно. Я принимаю его таким, какой он есть. Знаете, на самом деле он очень милый. В конце концов, позитронный мозг настолько сложен, что никто не в силах точно определить, что с ним не в порядке. Если Макса отрегулируют, он может потерять все свое обаяние, а я этого не перенесу.
– Но если робот неисправен, – настаивал приятель, нервно поглядывая на Макса, – он может быть опасным!
– Господь с вами! – рассмеялась хозяйка. – Макс у меня уже много лет. Он совершенно безобидный и вообще просто душка.
На самом деле Макс выглядел в точности как любой другой робот металлический, гладкий, слегка похожий на человека, но совершенно безликий. Однако добрая миссис Ларднер всех их считала личностями, милыми и обаятельными. Такова уж была эта женщина.
Как же могла она пойти на убийство?
Чтобы Джон Семпер Трэвис пал от руки убийцы – в это просто невозможно было поверить. Кто угодно, только не он. Замкнутый, тихий, он жил в миру, но был не от мира сего. Оригинальный математический гений Трэвиса позволял ему запросто создавать в уме сложнейший узор из мириадов позитронных связей, который затем закладывали роботам в мозги. К тому же Трэвис, главный инженер «Ю. С. Роботс энд Мекэникл Мен Корпорейшн», страстно увлекался световой скульптурой. Ей он посвятил целую книгу, в которой доказал, что математические модели, применяемые им для конструирования позитронного мозга, с успехом могут быть модифицированы и использованы для создания высокохудожественных световых скульптур.
Но попытка воплотить теорию в жизнь обернулась для инженера полным крахом. Его скульптуры, созданные на основе математических принципов, оказались тяжеловесными, невыразительными и скучными.
В сущности, только это и отравляло спокойное, замкнутое и налаженное существование Трэвиса, однако он чувствовал себя по настоящему несчастным. Он знал, что теория его верна, но не мог доказать свою правоту на практике. Если бы удалось создать хоть один шедевр... Естественно, инженер был знаком с творчеством миссис Ларднер. Все признавали ее талант, однако для Трэвиса было очевидно, что художница не имеет ни малейшего представления об элементарных основах робоматематики. Он неоднократно писал ей, но она категорически отказывалась объяснить свой художественный метод. Трэвис вообще сомневался, что у нее есть какой то метод. Скорее, чистая интуиция, – но даже интуицию необходимо выразить математически! В конце концов Трэвису удалось раздобыть приглашение на один из приемов миссис Ларднер. Он должен был увидеть ее!
Мистер Трэвис опоздал на прием: он еще раз попытался создать световую скульптуру и опять потерпел сокрушительное поражение.
– Какой у вас чудной робот – тот, что принимал у меня пальто и шляпу, заметил инженер, глядя на хозяйку с почтительным удивлением.
– Это Макс, – сказала миссис Ларднер.
– Он совершенно разрегулирован, к тому же эта модель давно устарела. Почему бы вам не вернуть его на фабрику?
– О нет, это слишком хлопотно.
– Какие хлопоты, о чем вы! – воскликнул инженер. – Вы были бы поражены, узнав, насколько это легко. Впрочем, как представитель «Ю. С. Роботс», я взял на себя смелость отрегулировать его собственноручно. Это заняло всего пару минут: сами увидите, в какой он теперь прекрасной рабочей форме.
Лицо миссис Ларднер исказила странная гримаса. Впервые в жизни эта великодушная женщина испытывала ярость, и, казалось, черты лица просто не умели выразить непривычное чувство.
– Вы отрегулировали его? – вскричала она. – Но ведь это он создавал все мои световые скульптуры! Неправильная регулировка, которую вы никогда не сможете восстановить, именно она... она...
И надо же было случиться такому несчастному совпадению, что в этот момент миссис Ларднер демонстрировала гостям свою коллекцию и прямо перед ней на мраморном столике лежал украшенный драгоценными камнями кинжал из Камбоджи!
У Трэвиса тоже вытянулось лицо.
– Вы хотите сказать, что, если бы я изучил уникальные дефекты его позитронного мозга, я смог бы понять...
Взмах кинжала был настолько молниеносным, что никто просто не успел опомниться, а Трэвис не сделал попытки увернуться. Говорят, он даже слегка подался вперед – так, словно сам хотел умереть.
Чувство силы
НАУЧНО ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПАМФЛЕТ
Джехан Шуман привык иметь дело с высокопоставленными людьми, руководящими раздираемой распрями планетой. Он был штатским, но составлял программы для автоматических счётных машин самого высшего порядка. Поэтому генералы прислушивались к нему. Председатели комитетов конгресса – тоже.
Сейчас в отдельном зале Нового Пентагона было по одному представителю тех и других. Генерал Уэйдер был тёмен от космического загара, и его маленький ротик сжимался кружочком. У конгрессмена Бранта было гладко выбритое лицо и светлые глаза. Он курил денебианский табак с видом человека, патриотизм которого достаточно известен, чтобы он мог позволить себе такую вольность.
Высокий, изящный Шуман, программист Первого класса, глядел на них без страха.
– Джентльмены, – произнёс он, – это Майрон Луб.
– Человек с необычайными способностями, открытый вами случайно, – безмятежно сказал Брант. – Помню.
Он разглядывал маленького, лысого человечка с выражением снисходительного любопытства.
Человечек беспокойно шевелил пальцами и то и дело переплетал их. Ему никогда ещё не приходилось сталкиваться со столь великими людьми. Он был всего лишь пожилым техником низшего разряда; когда то он провалился на всех экзаменах, призванных обнаружить в человечестве наиболее одарённых, и с тех пор застрял в колее неквалифицированной работы. У него была одна страстишка, о которой пронюхал великий Программист и вокруг которой поднимал такую страшную шСтр. 1 : Стр. 2 : Стр. 3 : Стр. 4 : Стр. 5 : Страница 6 : Стр. 7 : Стр. 8 : Стр. 9 : Стр. 10 : Стр. 11 : Стр. 12 : Стр. 13 : Стр. 14 : Стр. 15 : Стр. 16 : Стр. 17 : Стр. 18 : Стр. 19 : Стр. 20 : Стр. 21 :
|